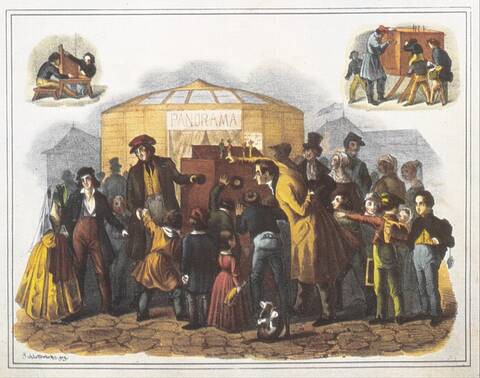Кто родился в Воскресенье... (духовное)
Кто родился в Воскресенье... - Культурная отсылка на сказку Вильгельма Гауфа - «Холодное сердце»
Положил в котомку
сыр, печенье,
Положил для роскоши миндаль.
Хлеб не взял.
— Ведь это же мученье
Волочиться с ним в такую даль! —
Все же бабка
сунула краюху!
Всё на свете зная наперёд,
Так сказала:
— Слушайся старуху!
Хлеб, родимый, сам себя несёт…
Хлеб
Поэт: Николай Рубцов
— Да неужели только это? — вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «Да, только это».
И с Нехлюдовым случилось то, что часто случается с людьми, живущими духовной жизнью. Случилось то, что мысль, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, всё чаще и чаще находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему, как самая простая, несомненная истина. Так выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди признавали себя всегда виноватыми перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей.
Ему ясно стало теперь, что все то страшное зло, которого он был свидетелем в тюрьмах и острогах, и спокойная самоуверенность тех, которые производили это зло, произошло только оттого, что люди хотели делать невозможное дело: будучи злы, исправлять зло. Порочные люди хотели исправлять порочных людей и думали достигнуть этого механическим путём.
Но из всего этого вышло только то, что нуждающиеся и корыстные люди, сделав себе профессию из этого мнимого наказания и исправления людей, сами развратились до последней степени и не переставая развращают и тех, которых мучают. Теперь ему стало ясно, отчего весь тот ужас, который он видел, и что́ надо делать для того, чтобы уничтожить его. Ответ, которого он не мог найти, был тот самый, который дал Христос Петру: он состоял в том, чтобы прощать всегда всех, бесконечное число раз прощать, потому что нет таких людей, которые бы сами не были виновны и потому могли бы наказывать или исправлять.
«Да не может быть, чтобы это было так просто», — говорил себе Нехлюдов, а между тем несомненно видел, что, как ни странно это показалось ему сначала, привыкшему к обратному, — что это было несомненное и не только теоретическое, но и самое практическое разрешение вопроса.
Всегдашнее возражение о том, что делать с злодеями, — неужели так и оставить их безнаказанными? — уже не смущало его теперь. Возражение это имело бы значение, если бы было доказано, что наказание уменьшает преступления, исправляет преступников: но когда доказано совершенно обратное, и явно, что не во власти одних людей исправлять других, то единственное разумное, что вы можете сделать, это то, чтобы перестать делать то, что не только бесполезно, но вредно и, кроме того, безнравственно и жестоко.
«Вы несколько столетий казните людей, которых признаете преступниками. Что же, перевелись они? Не перевелись, а количество их только увеличилось и теми преступниками, которые развращаются наказаниями, и ещё теми преступниками - судьями, прокурорами, следователями, тюремщиками, которые сидят и наказывают людей». Нехлюдов понял теперь, что общество и порядок вообще существует не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди всё - таки жалеют и любят друг друга.
Надеясь найти подтверждение этой мысли в том же Евангелии, Нехлюдов с начала начал читать его.
Прочтя Нагорную проповедь, всегда трогавшую его, он нынче в первый раз увидал в этой проповеди не отвлеченные, прекрасные мысли и большею частью предъявляющие преувеличенные и неисполнимые требования, а простые, ясные и практически исполнимые заповеди, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось всё то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — Царство Божие на земле.
из романа Л. Н. Толстого - « Воскресение»