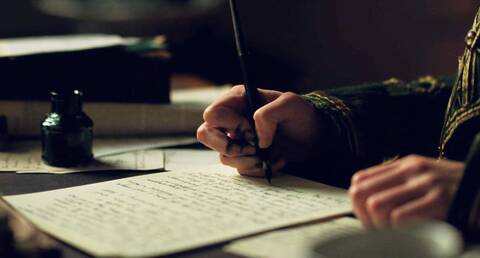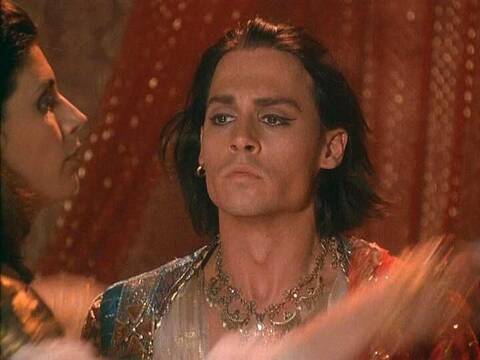Сюжет для автора
Оливер Кромвель
Встал у моста,
Нахалка осень
Рвёт лист с куста.
***
Мы ходим мимо
Неся свой крест,
С тоннами грима
Наших невест.
***
Смеются готы
Размазав мрак,
После работы
Он пьёт коньяк.
***
Оливер Кромвель
Играет джаз,
Незримый Лондон
В шаге от нас.
Оливер Кромвель.
Автор: Сергей Шидловский
II. Преждевременные запросы к судьбе ( Фрагмент )
Внутренний полюс ещё не открыт, магнитная стрелка воли тревожно подрагивает.
Он лихорадочно перелистывает захваченные им рукописи.
Это всё фрагменты, ни одна не закончена, и ни одна не кажется ему достойным трамплином для прыжка в бессмертие.
Вот несколько тетрадок: «Заметки о бессмертии души», «Заметки о философии и религии».
Вот конспекты времён коллежа. Вот черновики собственных сочинений, в которых поражает лишь одна заметка:
«После моей трагедии я возьмусь за это снова».
То тут, то там рассеянные стихи, запев эпической поэмы «Людовик Святой», наброски трагедии «Сулла» и комедии «Два философа».
Некоторое время Бальзак носился с планом романа «Коксигрю», замышлял роман в письмах «Стенио, или философические заблуждения» и другой, в «античном роде», озаглавленный «Стелла».
Мимоходом он набросал ещё и либретто комической оперы «Корсар».
Всё менее уверенным становится Бальзак.
Разочарованно проглядывает он свои наброски.
Ему неясно, с чего же начать.
С философской системы, с либретто оперы из жизни предместья, с романтического эпоса или попросту романа, который обессмертит имя Бальзака?
Но, как бы там ни было, только писать, только довести до конца нечто, что прославит его и сделает независимым от семьи!
Охваченный столь свойственным ему неистовством, он перерывает и перечитывает кучи книг, отчасти чтобы отыскать подходящий сюжет, отчасти чтобы перенять у других писателей технику их ремесла.
«Я только и делал, что изучал чужие творения и шлифовал свой слог, пока мне не показалось, что я теряю рассудок», – пишет он сестре Лауре.
Постепенно, однако, его начинает тревожить недостаток отпущенного ему времени.
Два месяца он растратил на поиски и опыты, а отпущенная ему родителями субсидия немилосердно скудна.
Итак, проект философского трактата отвергается – вероятнее всего потому, что он должен быть слишком обстоятелен и принесёт слишком мало дохода.
Сочинить роман?
Но юный Бальзак чувствует, что для этого он ещё недостаточно опытен.
Остаётся драма – само собой разумеется, это должна быть историческая неоклассическая драма, которую ввели в моду Шиллер, Альфьери, Мари Жозеф Шенье (*), – пьеса для «Французской комедии», и юный Оноре то и дело достаёт и лихорадочно просматривает десятки книжек из «кабинета для чтения».
Полцарства за сюжет!
Наконец выбор сделан. 6 сентября 1819 года он сообщает сестре:
«Я остановил свой выбор на „Кромвеле“ (**), он мне представляется самым прекрасным лицом новой истории.
С тех пор как я облюбовал и обдумал этот сюжет, я отдался ему до потери рассудка.
Тьма идей осаждает меня, но меня постоянно задерживает моя неспособность к стихосложению...
Трепещи, милая сестрица: мне нужно по крайней мере ещё от семи до восьми месяцев, чтобы переложить пьесу в стихи, чтобы воплотить мои замыслы и затем чтобы отшлифовать их...
Если бы ты знала, как трудно создавать подобные произведения! Великий Расин два года шлифовал «Федру», повергающую в отчаяние поэтов. Два года! Подумай только – два года!»
Но теперь мосты сожжены.
«Если у меня нет гениальности, я погиб».
Следовательно, он должен быть гениален.
Впервые Бальзак поставил перед собой цель и швырнул в игру свою непреодолимую волю.
А там, где действует эта воля, сопротивление бесполезно.
Бальзак знает – он завершит «Кромвеля», потому что он хочет его завершить и потому что он должен его завершить.
«Я решил довести „Кромвеля“ до конца во что бы то ни стало! Я должен что-то завершить, прежде чем явится мама и потребует у меня отчёта в моём времяпрепровождении».
Бальзак бросается в работу с яростью одержимого, о которой он сказал однажды, что даже злейшие враги не могут ему в ней отказать.
Впервые он даёт тот обет монашеской и даже затворнической жизни, который в периоды самого напряжённого труда станет для него незыблемым законом.
Денно и нощно сидит он за письменным столом, часто по три - четыре дня не покидает мансарду и спускается на грешную землю только затем, чтобы купить себе хлеба, немного фруктов и неизбежного свежего кофе, так чудесно подстёгивающего его утомлённые нервы.
Постепенно наступает зима, и пальцы его, с детских лет чувствительные к холоду, коченеют на продуваемом всеми ветрами нетопленном чердаке.
Но фанатическая воля Бальзака не сдаётся.
Он не отрывается от письменного стола, ноги его укутаны старым отцовским шерстяным пледом, грудь защищена фланелевой курткой.
У сестры он клянчит «какую - нибудь ветхую шаль», чтобы укрыть плечи во время работы, у матери - шерстяной колпак, который она ему так и не связала; и, желая сберечь драгоценные дрова, он целый день остаётся в постели, продолжая сочинять свою божественную трагедию.
Все эти неудобства не в силах сломить его волю.
Только страх перед расходом на дорогое светильное масло приводит его в трепет, когда он вынужден при раннем наступлении сумерек уже в три часа пополудни зажигать лампу.
Иначе для него было бы безразлично – день сейчас или ночь.
Круглые сутки он посвящает работе, и только работе.
из книги Стефана Цвейга - «Три мастера. Бальзак. Диккенс. Достоевский»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) ... Историческая неоклассическая драна, которую ввели в моду Шиллер, Альфьери, Мари Жозеф Шенье... - Альфьери, Витторио (1749 - 1803) – итальянский поэт и драматург. Шенье, Мари Жозеф (1764 - 1811) – французский поэт и драматург, участник и певец революции 1789 - 1794 годов; автор трагедий в стихах «Карл IX, или школа королей» (1789), «Кай Гракх» (1792) и других. Примечание редактора.
(**) ... «Я остановил свой выбор на „Кромвеле“ - Образ Оливера Кромвеля (1599 - 1658), выдающегося деятеля английской революции XVII века, привлекал в те годы не только юного Бальзака. Через несколько лет (1827) Виктор Гюго создал драму «Кромвель», предисловие к которой стало литературным манифестом французских романтиков. Примечание редактора.