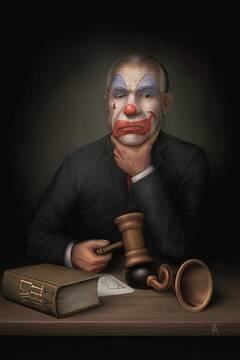Алладин | Переход к ставкам на повышение
На Востоке солнце жарче,
Звёзды ближе по ночам,
Жизнь поэты посвящают
Жгучим девичьим очам.
Нет Востока без базара,
Без крикливых зазывал,
Кто базар восточный видел —
В дивной сказке побывал.
Манят улочки кривые
Обещанием чудес,
Где-то лампа Алладина
В старой лавке ждёт свой час.
Заклинатель змей в тюрбане
На потеху детворе
Кобру танцевать заставил
В такт причудливой игре.
А вокруг шумит торгуясь
Разноликая толпа,
Сколько разного товара —
Просто крУгом голова !
На Востоке (отрывок)
Автор: nikitin
Раздел 9 9 (отрывок)
Каролина снова осталась одна.
Гамлен пробыл в Париже до первых чисел ноября для выполнения формальностей, которых потребовало окончательное утверждение общества при увеличении капитала до ста пятидесяти миллионов.
По желанию Саккара ему опять пришлось самому зайти к нотариусу Лелорену на улицу Сент - Анн и официально заявить, что все акции разобраны и капитал внесён сполна, хотя в действительности это было не так.
Потом он месяца на два уехал в Рим, чтобы заняться какими-то важными делами, о которых никому не говорил.
По-видимому, это была его пресловутая мечта о переселении папы в Иерусалим, а также другой, более осуществимый и более значительный проект — проект превращения Всемирного банка в католический, представляющий интересы всего христианского мира, — в громадную машину, предназначенную сокрушить, стереть с лица земли еврейский банк.
Оттуда он должен был опять поехать на Восток для прокладки железнодорожной линии Брусса - Бейрут.
Он уезжал из Парижа, радуясь быстрому процветанию фирмы, совершенно убеждённый в её непоколебимой прочности, — в душе его шевелилось теперь лишь глухое беспокойство по поводу этого необычайного успеха.
Поэтому накануне отъезда, беседуя с сестрой, он дал ей только один настойчивый совет — не поддаваться всеобщему увлечению и продать принадлежавшие им акции, если курс их превысит две тысячи двести франков: таким образом он хотел выразить свой личный протест против этого непрерывного повышения, которое считал безумным и опасным.
Когда Каролина осталась одна, раскалённая атмосфера, в которой она жила, начала ещё сильнее тревожить её.
В первую неделю ноября курс достиг двух тысяч двухсот, и вокруг Каролины начались восторги, возгласы признательности и безграничных надежд:
Дежуа рассыпался в благодарностях, дамы де Бовилье держались с ней как с равной, как с подругой божества, которому суждено было восстановить величие их древнего рода.
Хор благословений раздавался из уст счастливой толпы малых и великих; девушки, наконец-то, получали приданое, внезапно разбогатевшие бедняки могли обеспечить свою старость; богачи, снедаемые ненасытной жаждой наживы, ликовали, сделавшись ещё богаче.
После закрытия Выставки в Париже, пьяном от наслаждения и от сознания своего могущества, наступила невиданная минута — минута безграничной веры в счастье, в удачу.
Все ценные бумаги поднялись, наименее солидные находили легковерных покупателей, куча сомнительных сделок приливала к рынку, угрожая ему апоплексией (*), а внутри чувствовалась пустота, полное истощение государства, которое слишком много веселилось, тратило миллиарды на крупные предприятия и вскормило огромные кредитные учреждения, зияющие кассы которых лопались на каждом шагу.
Первая же трещина грозила полным крушением в этой атмосфере всеобщего помешательства.
И, должно быть, от этого тревожного предчувствия у Каролины сжималось сердце при каждом новом скачке акций Всемирного банка.
Никакие дурные слухи не доходили до неё, разве только лёгкий ропот игроков на понижение, удивлённых и побеждённых.
И всё - таки она ясно ощущала беспокойство, какая-то беда угрожала зданию, но какая?
Ничего нельзя было сказать, и ей приходилось ждать, наблюдая этот необычайный триумф ...
из романа Эмиля Золя - «Деньги»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) куча сомнительных сделок приливала к рынку, угрожая ему апоплексией - Апоплексия — это острое состояние, характеризующееся внезапным разрывом тканей яичника и кровоизлиянием в брюшную полость. Это состояние может угрожать жизни и здоровью, так как приводит к сильной боли и внутреннему кровотечению. Апоплексия чаще всего возникает у женщин молодого возраста и требует неотложной медицинской помощи.
То есть внезапный внутренний удар по рынку ценных бумаг с последующими тяжёлыми последствиями.