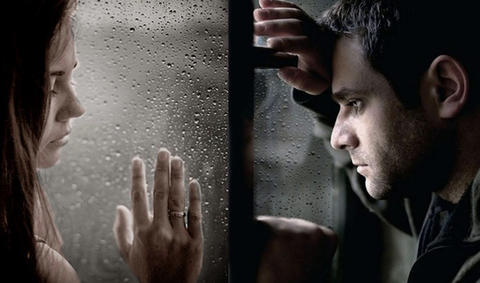Капли Великого Моря
Дух рассеянный праздно мечтал.
Поздний вечер стирал силуэты.
Душный воздух лицо обжигал.
Просто не было свежего ветра.
Помню в жаркое время давно
С ним был дружен в едином порыве.
Да ведь вот он! И дёрнул окно.
Заходи, дорогой, сердцу милый.
Распахнул все преграды, а он
Мокрым тленом пахнув, без привета.
Деловито обыскивать дом
Сквозняком заглянул чуть заметно.
А бывало взрывался легко.
Твоему безрассудству дивился.
Не узнаешь меня отчего?
Или духом я переменился?
Буйный дул никуда не вникал,
Пролетая по верхам деревьев,
Иной раз их нарочно ломал.
И смеялся гремя: - На поленья!
Раздувал и сердца и костры,
Были тучи тобою влекомы.
А теперь отираешь углы
И скулишь в вышине незнакомо.
Где твои молодые года?
Где порывы и шумы природы?
Счастье где и любовь навсегда? ...
И размерены полные воды.
Ветер
Автор: Сергей Авилов Субботин
MIRAVI, Гио Пика - Мир (official video)
Волга разделяла мир надвое.
Левый берег был низкий и жёлтый, стелился плоско, переходил в степь, из - за которой каждое утро вставало солнце.
Земля здесь была горька на вкус и изрыта сусликами, травы – густы и высоки, а деревья – приземисты и редки. Убегали за горизонт поля и бахчи, пёстрые, как башкирское одеяло.
Вдоль кромки воды лепились деревни. Из степи веяло горячим и пряным – туркменской пустыней и солёным Каспием.
Какова была земля другого берега, не знал никто.
Правая сторона громоздилась над рекой могучими горами и падала в воду отвесно, как срезанная ножом. По срезу, меж камней, струился песок, но горы не оседали, а с каждым годом становились круче и крепче: летом – иссиня - зелёные от покрывающего их леса, зимой – белые.
За эти горы садилось солнце. Где - то там, за горами, лежали ещё леса, прохладные остролистые и дремучие хвойные, и большие русские города с белокаменными кремлями, и болота, и прозрачно - голубые озёра ледяной воды. С правого берега вечно тянуло холодом – из - за гор дышало далёкое Северное море. Кое - кто называл его по старой памяти Великим Немецким.
Шульмейстер Якоб Иванович Бах ощущал этот незримый раздел ровно посередине волжской глади, где волна отливала сталью и чёрным серебром.
Однако те немногие, с кем он делился своими чудными мыслями, приходили в недоумение, потому как склонны были видеть родной Гнаденталь (*) скорее центром их маленькой, окружённой заволжскими степями вселенной, чем пограничным пунктом.
Бах предпочитал не спорить: всякое выражение несогласия причиняло ему душевную боль.
Он страдал, даже отчитывая нерадивого ученика на уроке. Может, потому учителем его считали посредственным: голос Бах имел тихий, телосложение чахлое, а внешность – столь непримечательную, что и сказать о ней было решительно нечего. Как, впрочем, и обо всей его жизни в целом.
Каждое утро, ещё при свете звёзд, Бах просыпался и, лежа под стёганой периной утиного пуха, слушал мир.
Тихие нестройные звуки текущей где - то вокруг него и поверх него чужой жизни успокаивали.
Гуляли по крышам ветры – зимой тяжёлые, густо замешанные со снегом и ледяной крупой, весной упругие, дышащие влагой и небесным электричеством, летом вялые, сухие, вперемешку с пылью и лёгким ковыльным семенем.
Лаяли собаки, приветствуя вышедших на крыльцо хозяев. Басовито ревел скот на пути к водопою (прилежный колонист никогда не даст волу или верблюду вчерашней воды из ведра или талого снега, а непременно отведёт напиться к Волге – первым делом, до того, как сесть завтракать и начинать прочие хлопоты).
Распевались и заводили во дворах протяжные песни женщины – то ли для украшения холодного утра, то ли просто чтобы не заснуть. Мир дышал, трещал, свистел, мычал, стучал копытами, звенел и пел на разные голоса.
Звуки же собственной жизни были столь скудны и незначительны, что Бах разучился их слышать.
Дребезжало под порывами ветра единственное в комнате окно (ещё в прошлом году следовало пригнать стекло получше к раме да законопатить шов верблюжьей шерстью). Потрескивал давно не чищенный дымоход. Изредка посвистывала откуда - то из - за печи седая мышь (хотя возможно, просто гулял меж половиц сквозняк, а мышь давно издохла и пошла на корм червям).
Вот, пожалуй, и всё.
Слушать большую жизнь было много интересней. Иногда, заслушавшись, Бах даже забывал, что он и сам – часть этого мира; что и он мог бы, выйдя на крыльцо, присоединиться к многоголосью: спеть что - нибудь громкое, задорное, к примеру колонистскую “Ach Wolge, Wolge!..”, или хлопнуть входной дверью, да, на худой конец, просто чихнуть. Но Бах предпочитал слушать.
В шесть утра, одетый и причёсанный, он уже стоял у пришкольной колокольни с карманными часами в руках. Дождавшись, когда обе стрелки сольются в единую линию – часовая на шести, минутная на двенадцати, – он со всей силы дергал за верёвку: гулко ударял бронзовый колокол.
За долгие годы Бах достиг в этом упражнении такого мастерства, что звон раздавался ровно в тот момент, когда минутная стрелка касалась циферблатного зенита. Мгновение спустя – Бах знал это – каждый обитатель колонии поворачивался на звук, снимал картуз или шапку и шептал короткую молитву. В Гнадентале наступал новый день.
В обязанности шульмейстера входило бить в колокол трижды: в шесть, в полдень и в девять вечера. Гудение колокола Бах считал своим единственным достойным вкладом в звучащую вокруг симфонию жизни.
Дождавшись, пока последняя мельчайшая вибрация стечет с колокольного бока, Бах бежал обратно в шульгауз.
Школьный дом был отстроен из добротного северного бруса (лес колонисты покупали сплавной, шедший вниз по Волге от Жигулёвских гор или даже из Казанской губернии). Фундамент имел каменный, для прочности обмазанный саманом, а крышу – по новой моде жестяную, недавно заменившую рассохшийся тёс. Наличники и дверь Бах каждую весну красил в ярко - голубой цвет.
Здание было длинное, в шесть больших окон по каждой стороне.
Почти все внутреннее пространство занимал учебный класс, в торце которого были выгорожены учительские кухонька и спальня. С той же стороны размещалась и главная печь. Для обогрева просторного помещения её тепла не хватало, и по стенам лепились ещё три железные печурки, отчего в классе вечно пахло железом: зимой – калёным, летом – мокрым.
В противоположном конце возвышалась кафедра шульмейстера, перед ней тянулись ряды скамей для учащихся. В первом ряду – “ослином” – сидели самые младшие и те, чье поведение или прилежание заботили учителя; далее рассаживались ученики постарше.
Ещё имелись в классном зале: большая меловая доска, набитый писчей бумагой и географическими картами шкаф, несколько увесистых линеек (употреблявшихся обычно не по прямому назначению, а в воспитательных целях) и портрет российского императора, появившийся здесь исключительно по велению учебной инспекции.
Надо сказать, портрет этот доставлял только лишние хлопоты: после его приобретения сельскому старосте Петеру Дитриху пришлось выписать газету, чтобы – сохрани Господь! – не пропустить известие о смене императора в далёком Петербурге и не оконфузиться перед очередной комиссией.
Прежде новости из русской России доходили в колонию с таким запозданием, словно находилась она не в сердце Поволжья, а на самых задворках империи, так что конфузия вполне могла случиться.
из романа Гузель Яхиной - «Дети мои»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) склонны были видеть родной Гнаденталь скорее центром их маленькой, окруженной заволжскими степями вселенной, чем пограничным пунктом - Гнаденталь — немецкое поселение на берегу Волги. В переводе с немецкого название означает «благодатная долина». В дореволюционной России было несколько Гнаденталей — это типичное название для немецкой колонии. В энциклопедическом словаре «Немцы России. Населённые пункты и места поселения» перечислены Гнадентали в Бессарабской, Волынской, Екатеринославской, Таврической губерниях, в Семипалатинской области и одно меннонитское (1) село с таким названием в Томской губернии.
(1) меннонитское - Меннонитство — одна из протестантских деноминаций, называемая по имени её основателя, Менно Симонса (1496 – 1561 годы), голландца по происхождению. Впервые меннонитство было упомянуто в 1545 году. Самый характерный для меннонитов принцип — религиозный пацифизм: они проповедуют смирение, отказываются брать в руки оружие и применять силу. Соответственно, они также отказываются от службы в армии и принесения присяги. В церковном отношении каждая самостоятельно организовавшаяся община существует независимо от других.