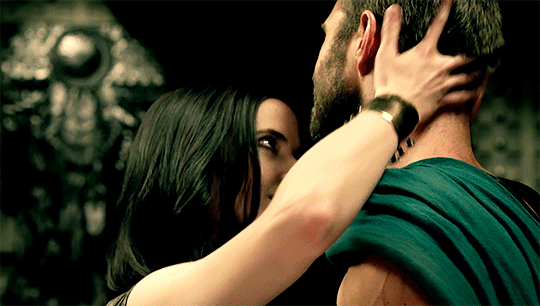Дом за туманами

Часть I. Стакан пива
В первом классе чудеса случались скорее как исключение, но к выпускному воплощениями овладевали все. Кому-то дара хватало воплотить крепкое и кислое яблоко, кому-то — оживить нарисованную углём ворону. У Маши в экзаменационной композиции получилось создать берег; написано было так, что от бирюзовой воды веяло прохладой, и так хотелось туда, на рассыпчатый сероватый песок, под ветер, гнущий пальму. Но высшую оценку всё-таки получил Альберт — Альберт-Мольберт, нарисовавший уличный ресторанчик, пару за столиком и цветочный рынок совсем рядом. Холст дышал парфюмом, сухофруктами, мускатом и трюфелем, доносился аромат влажных тюльпанов, холодных пионов и розовых лепестков. Ни нотки масляной краски.
Преподаватели долго слушали голоса, звон серебряных вилок и шум поливальной машины, орошавшей вечерние улочки. Из оцепенения комиссию вывел хлопок пробки — пара на картине, вернее, уже где-то в реальности открыла бутылку, и кавалер протягивал бокал даме в маленьком чёрном платье. Солнце играло в крохотных пузырьках, у дамы темнели кудри, блестели туфли-лодочки и матово светились лайковые перчатки...
Ровно к пяти выпускников пригласили в кабинет директора — за длинным столом восседала молчаливая комиссия, а их куратор, чудаковатый Ольгерд Андреевич, нетерпеливо постукивал пальцем по стопке дипломов и рыскал глазами среди вчерашних учеников.
Вначале раздали синие — самым слабым. Затем красные — сильнейшим. Наконец в руках Ольгерда осталось только две корочки — красная и чёрная. Мольберт точно знал, какая достанется ему, и всё равно выдохнул с облегчением, когда вперёд пригласили Машу.
— Альберт Гедиминов, — особенно высоко произнёс директор, и Мольберт на чугунных ногах вышел из толпы. — Поздравляю. Высшая награда.
Он принял чёрный диплом из рук Ольгерда, на миг соприкоснувшись с ним пальцами; кожа у старика была сухая, иссечённая морщинами, цветная от въевшейся краски.
— На два слова после церемонии, — шепнул куратор, и Альберт кивнул, стараясь сдержать разворачивающееся в груди чувство пустоты.
Часом позже, когда чай был допит, а малиновый рулет съеден до крошки, Альберт выскользнул из кабинета и постучал в угловую каморку, где Ольгерд Андреевич занимался с выпускниками один на один.
— Альберт, — добродушно протянул тот. — Заходите… присаживайтесь. Вот о чём я хочу потолковать с вами, юноша… Я всегда говорю с талантливыми выпускниками. Нет, не работу предлагаю, упаси, упаси, нет… Альберт, вам так мощно даются воплощения, что… м-м… словом, скажите, не бывает ли у вас ощущения, что, закончив картину, вы словно заглядываете в бездну? Бездну внутри себя? Словно вы исчерпали все силы, потратили всё, что было, чтобы воплотить рисунок?
Знакомая пустота всколыхнулась, заставив Мольберта ответить, не думая:
— Да!
— Не сомневался, — сухо кивнул Ольгерд. — Пустота — обратная сторона медали, дара. Пропадает уверенность, трясутся руки, карандаш жжёт пальцы, когда начинаешь новое, угадал?
Мольберт кивнул.
— Да, да, — закивал и профессор. — Вы страшно худой, как палка, как стержень сангины. Вы черпаете силы, чтобы одолеть неуверенность, из себя. А самый главный ответ, который почему-то не дают на уроках композиции, — в том, что настоящий мастер должен черпать мощь извне. Из себя нужно поднимать дар, извлекать жизнь, чтобы вдыхать её в рисунок. Из себя нужно ковшом, черпачком вытягивать волшебство воплощения… А силы, чтобы преодолевать страх перед новой работой, нужно брать извне. Догадываетесь, о чём я?
Мольберт, задыхаясь от слов, заставивших пустоту внутри распахнуть крылья, помотал головой.
— Я покажу вам. Сейчас. Вы ведь в нужной кондиции? Неудивительно — после такой выпускной работы... Многое бы я дал, чтобы оказаться в вашем ресторанчике или на цветочном базаре! Идёмте, идёмте, юноша! До закрытия четверть часа...
Ольгерд привёл его в старую керамическую мастерскую, в подвале которой ютилось одно из самых скромных питейных заведений города. Но даже оно показалось непривычному Мольберту филиалом ада: дым, духота, запах сладкого липкого пива, рыбы и мокрого дерева… Кроме того, было страшно накурено и пахло порохом: в бар ежедневно заглядывали вояки и дембеля.
Профессор потащил оторопевшего ученика к огонькам стойки и быстро велел:
— Рюмку граппы!
Мольберт, сроду не пробовавший спиртного, отпрянул.
— Мальчик мой, если хочешь сохранить дар надолго, придётся научиться восполнять резерв… Поверь мне, поверь, пожалуйста!
Лицо у куратора было умоляющим; он обхватил руку Мольберта обеими своими сухими, сморщенными ладонями.
— Пожалуйста, юноша… Не представляете, сколько художников с настоящим даром, с настоящим воплощением сгорели ни за что, просто потому что так и не научились черпать извне… Попробуйте, прошу вас… Ради себя, ради меня, ради будущих воплощений!
Мольберт попытался стряхнуть его руки, но профессор держал крепко, а бармен уже протягивал рюмку, похожую на мексиканский кабальито, которую Мольберт рисовал однажды на спор, но почему-то так и не смог воплотить.
Он закинул рюмку в себя, скорее чтобы отвязаться, нежели потому, что поверил словам старика. Сначала Мольберт не почувствовал ничего; потом ощутил, что хватка профессора ослабла, а в горле разлилась горечь с вяжущей нотой тёмного южного винограда.
— Вот и всё, друг мой, — прошептал Ольгерд. — Будьте уверены: вы обеспечены даром навсегда. И запомните вот что: чем крепче напиток, тем крепче будут ваши воплощения…
Это Мольберт запомнил, а вот дальше вечер поплыл, покачиваясь, от стойки к столу, от стола к лавке, и вместо профессора рядом оказался незнакомец в штатском, но с портупеей.
— Стакан пива, юноша?
— С радостью, друг мой, — подражая тону профессора, развязно кивнул Мольберт и в следующий миг уже пил сладкий, пенный, с призвуком фисташки напиток. Когда пива осталось совсем на дне, он с сожалением взболтнул стаканом и влил в себя остатки, чувствуя, как страшная птица страха затихла и съёжилась глубоко внутри, а на её месте под сердцем плещет крыльями птица вдохновения, птица, обещающая силу воплощения любого штриха...
А потом, с последним глотком, что-то попало в рот, что-то круглое, металлическое и плоское, твёрдое, обо что он едва не сломал зуб, и Мольберт разом пришёл в себя. Кровь бросилась к лицу; на память мгновенно пришёл неписаный закон военного времени: принимая от офицера монету с профилем Протектора, ты обязуешься служить Протекторату. Альберт выплюнул железку на ладонь и с ужасом убедился, что это действительно старинный рубль. Расталкивая посетителей, к ним уже двигались двое солдат, вооружённых по всей форме. Откуда-то из-под стола вырос Ольгерд, запричитал слабым, пьяненьким голосом:
— Да что же вы… Он же совсем юнец… Упаси, упаси вас! Он же только закончил художественное… У него дар!
Солдаты крепко взяли растерянного Альберта под руки.
— Дар! Дар! — кричал профессор, вцепляясь в портупею офицера. — Дар!
Тот без всякого выражения разжал старческие пальцы и следом за солдатами, стиснувшими между собой Мольберта, вышёл из пивной.
Часть II. Дом за Передельем
Мольберту повезло: его отправили не на фронт и не в колонии, а к Переделью — в город-гарнизон, где жили жёны военных, торгаши-челночники и сотрудники ИТоПа, Института торсионных полей. Прикрыть институт совсем, расписавшись в пренебрежении к науке, Протекторат не мог, но финансировали так себе, и со временем ИТоП стал приютом для всех научных отбросов государства: тут изучали новояз, теорию чисел, евгенику... Работала, конечно, и кафедра сопределья — грех было не открыть здесь-то, в двух шагах от Передела.
Кроме ИТоПа в городке стояло пять десятков домов, имелся скверик с фонтаном, заросшая площадь и психбольница, куда отправляли солдат, выстоявших в стычках с передельцами физически, но не морально. Само Переделье сочилось мягким туманом, как ситцем, из-за кривых и широких ворот на краю города.
Расквартировали Мольберта у начальника ИТоПа, в маленьком двухэтажном доме, окружённом столетними липами и яблонями. В первый же вечер, обескураженный бесцеремонностью судьбы, с головой, гудящей от дороги, погоды и маршировки, Мольберт устроился за столом в маленькой тёмной комнате и взялся за краски — единственное, что уцелело в круговерти обмундирования, закругления штатских дел, прощания с родителями, присяги и эшелона.
Начальник ИТоПа, вредный усатый дед, проник неслышно, как будто свои девяносто с хвостиком килограммов нёс на крылышках. Подошёл к Мольберту, заглянул через плечо.
— Так у тебя, значит, дар. Вот так квартиранта занесло. К Толечке тебе надо, солдатик. Она тебя сразу под крыло возьмёт.
— Толечка, — хмурясь,чтоб не казаться жалким, повторил Мольберт. — Это кто?
Толечкой оказалась Анатолия Сергеевна Промилле, заведующая кафедрой Переделья. В свободное от кафедры и мужа время она занималась темой, за которую весь город величал её чудачкой: выясняла, какая сила заставляет воплощаться рисунки наделённых даром.
Мольберт оказался свежей жертвой — заезжих художников в забытом пограничном городке не было уже давно.
Усатый директор ИТоПа вытолкал нового жильца на второй же вечер — к нему пришли друзья-завкафедры, и Мольберт, даже в отдельной комнатке, всё равно мешал.
— До одиннадцати чтоб духу не было!
Пошатываясь, Мольберт двинул по незнакомым улочкам и вышел к городской площади. Пахло петуньями; каменная императрица Катарина ласково улыбалась с узенького постамента, а перед памятником кормила голубей девушка в светлом платье, сиявшем в пыльных сумерках. Мольберт поёжился и хотел уйти, но всё-таки досмотрел, как девушка вытряхнула из пакета крошки и свернула в боковую аллейку. Он, не успев даже подумать, рванул следом. Нагнал, громыхая по камням казёнными сапогами:
— Девушка! Вам не холодно?
Глупее не придумаешь. Но она остановилась, обернулась, ответила:
— Не жалуюсь.
И оказалась вовсе не девушкой, а женщиной, лет на десять старше Мольберта. Фигурка девичья, а лицо — не старушечье, но уже с морщинками. Из причёски уютно выбивалось несколько прядей, а через локоть был перекинут тёплый шерстяной платок с шариками по кайме.
— Новобранец? — спросила женщина с ноткой жалости.
Мольберт кивнул. Пнул камень — тот сделал хитрый крюк, отскочил от бордюра и ударил ей по туфле.
— П-простите…
— Да что там, — отмахнулась она. — Альберт же? Да?
— Да...
— Правильно. У нас нынче только один новобранец. Да ещё с даром. Не спутать.
— О! А вы… Вероятно, не ошибусь, если… Промилле? Анатолия Сергеевна?
— Сергеевна-Сергеевна. Пал Палыч уже все уши про меня прожужжал? Что ловить буду, изучать?
— Да не все…
— Да не буду. Захотите — приходите, поговорим. Тут вечерами всё равно делать нечего. А не захотите — не такая уж я маньячка.
Но Анатолия всё же была маньячка — это Мольберт понял в первый же вечер, когда заглянул к ней, пряча за спиной маленькую лилию, нарисованную накануне. Лилия вышла голубоватая, с синими жилками у сердцевины и на тонком стебле, от которого пахло черёмухой.
Анатолия поднесла цветок к лицу. Принюхалась, сощурилась, потёрла меж пальцев лепесток и вдруг показалась Мольберту гораздо моложе, почти совсем девчонкой.
— Воплотили?.. Какая тонкая работа! Не отличишь от живой...
Она тихонько провела его в дальнюю комнату, забитую книгами и кружевами, усадила на кровать, сама села напротив, на стул и, положив на колени лилию, принялась выспрашивать.
Что чувствуете, когда рисуете? Вибрация? Напряжение? О чём думаете? Материал имеет значение? Формат бумаги? Воплощается всё подряд? А если изобразить что-то на руке? А если на скатерти, случайно? Что случается, если пишете числа, буквы, иероглифы? Как часто воплощаемое совпадает с воплощённым? Бывает ли чувство усталости после?
«И она о пустоте», — с тоской подумал Мольберт, у которого после лилии до сих пор тянуло, ныло внутри — правда, куда меньше обычного.
Неожиданно для себя он резко кивнул:
— Бывает. Ещё как бывает. Прямо сейчас.
Анатолия осеклась. Альберт по привычке портретиста запомнил, как сошлись над переносицей брови: одна перевёрнутым чаячьим крылом, другая — виноватым росчерком...
За окном сыпал первый мокрый снег. Он смешивался с клубами тумана, валившего из-за Переделья, и от этого было одновременно свежо и душно.
Анатолия строчила, пристроив блокнот к стене и не замечая, что шаль съехала с плеч и вот-вот упадёт. Мольберт хотел было поправить, протянул руку, но не решился. Только спросил, прислушиваясь к вою ветра:
— Вам не дует?..
— Несколько... зябко, — делая паузы в такт письму, пробормотала Анатолия. — Конечно, дома... было бы уютней. Но дома… Миша. Так что…
— Миша?
— Муж.
— О.
Она быстро глянула на него исподлобья, тревожно и зло. Оборвала строчку, бросила ручку на облупленный подоконник и круто повернулась.
— Да, да. Осенью в институте не топят, одно и то же каждый год — пальто, валенки… Ничего, ещё не так холодно. Нынче вообще год выдался тёплый. Алыча была в соку до самого октября. Да вы ведь уже были здесь в это время… да… Но наверняка не обратили внимания — со всей этой вашей солдатской жизнью…
— Да что там, — подобрав ручку, неуверенно улыбнулся Мольберт. — Я думал, будет хуже. Думал, в первый же день пошлют за ворота...
— И как? — с любопытством спросила Анатолия. — До сих пор не посылали?
— Только в караул в трёхстах метрах.
— Ну? И что видели? Чудища? Диковинные животные? Гипербореи?
— Туман. Больше ничего…
— Значит, повезло. Ветер был не в нашу сторону.
Мольберт открыл рот, но Анатолия подняла ладонь, покачала головой:
— Ветер и ветер. Забудьте. А вообще, если не боитесь холода, пойдёмте, прогуляемся? Хватит мне вас мучать…
Мольберт, вертя ручку в пальцах, посмотрел на неё исподлобья.
— Считаете меня юнцом, которому нельзя доверять?
— Считаю, ещё не время, — ласково ответила она. — Одевайтесь, правда. Подышим свежим воздухом.
— Я могу проводить вас до дома?
— Нет, — довольно резко ответила Анатолия, но тут же смягчила слова улыбкой: — Не надо. Но я вам покажу такой замечательный сквер на улице Техников…
— Нет, — перебил Мольберт, удивляясь своей смелости. — Вернее, сейчас — да. А потом — лучше я вам покажу. Чудесный ресторан. Правда, не сегодня, а в увольнительную, добираться туда неблизко. Но…
— Сами нарисовали?..
Он кивнул, испытывая одновременно тоску и радость, глядя в её карие, с жёлтыми точечками глаза.
В кафе пахло совсем как тогда: свежими цветами с рынка, тонким парфюмом, сухими абрикосами, хурмой и, конечно, кофе. Звенели приборы, гомонили голуби, и где-то в переулке гудела поливальная машина.
— Человек! Шампанского! — дурачась, позвала Анатолия. Она была одета небрежно, с какой-то особой, щемящей душу нежностью: в просторную кофту с глубокими складками, тёмную плиссированную юбку до пола и с неизменным своим платком...
Когда принесли бутылку в ведёрке со льдом и цветами, Мольберт предпринял несколько неуклюжих попыток открыть, но ничего не вышло. Анатолия выхватила у него шампанское; из широких рукавов мелькнули незагорелые, хрупкие кисти.
— Не трясите! Оно же взорвётся!
— Никуда оно не взорвётся… Скажите, а вы пробовали рисовать жидкости?
— Толя! Мы же договорились! А вы снова за расспросы...
Она рассмеялась, дёргая пробку и в такт качая лаковой туфлёй. Им уже несли яблочный пирог, и Мольберт хотел было попросить официанта открыть бутылку, но Анатолия махнула рукой:
— Я сама. Я умею, правда!
Хлопок пробки смешался со звоном ножей и вилок, с шумом фонтана и грудным гульканьем голубей. Анатолия аккуратно наполнила бокалы.
— На самом деле я не пью, — потирая шею, вздохнул Мольберт.
— Зачем тогда шампанское?
— Вы попросили сами. К тому же, это была моя экзаменационная работа... Цветы… Уличное кафе... Шампанское… — слегка смущаясь, объяснил он. — Но пить я не буду.
Анатолия удивлённо подняла брови. Словно извиняясь, отсалютовала ему бокалом:
— К сожалению, не могу ответить тем же. Хмель помогает отрешаться. А уж здесь, с вами, мне слишком хорошо, чтобы упускать такой шанс.
Она сделала глоток под испытующим взглядом Мольберта, промокнула губы и тут же сощурилась:
— Слушайте, Ал. А всё-таки, когда-нибудь вы рисовали под воздействием алкоголя? Как это повлияло на воплощения?
И снова пошло-поехало... Но пузырьки выдыхающегося шампанского играли на солнце, её кудри вились, а туфли-лодочки блестели совсем как на его выпускной композиции.
Портрет углём он подарил ей на четвёртый месяц службы — рисовал долго, в те долгие ночи, когда не дремал сидя на сундуке в её книжно-кружевной комнатке, а тосковал в своём чулане под залихватские песни или храп, проклиная её вернувшегося из отлучки мужа.
— Как служба? — привычно спросила она, ставя перед ним глубокую обколотую чашку с кофе.
— Вчера — наряд в карауле. Как обычно: триста метров до Переделья, туман, ничего особенного. Я уж и устал ждать этих монстров, — пожал плечами Мольберт. — А сегодня искали по городу неразорвавшиеся мины — ну, ещё со времён раскола. Почему-то усердней всего пришлось копать за домом Пал Палыча...
— Хм. Странно…
— Вот и мне так показалось. Почему именно за его домом, он что, думает, что…
— Странно, что копали так рано. Вроде картошку сажать не время.
— Картошку? А разве…
— Ты думаешь, у Пал Палыча сам собой такой огород вырос? — рассмеялась Анатолия.
Мольберт притих — пусть бы смеялась подольше...
Допив кофе, он вытащил из кармана стопку карточек, обёрнутых в полиэтиленовый пакет. Развернул и аккуратно выложил на блестящий противень, где уже сушилась россыпь акварельных набросков, наклеенных на картонки. Они походили на старинный пёстрый пасьянс: Анатолия просила нарисовать то обычный лист, то палец, то цифру, то море, то авокадо. Она хоть и была повернута на своём неразрешимом вопросе — в чём же кроется сила воплощения? — но рисовать что-то новое просила аккуратно, с миллионом оговорок — если не устал, если восстановился, если рука не дрожит, если внутри не ноет… А у Мольберта уже почти и не ныло; может, из-за того, что рисунки были совсем маленькие, а может, потому что рисовал, чтобы доставить ей удовольствие, а не чтоб впечатлить одногруппников и профессоров.
— Ал. А как ты вообще попал сюда? — как-то спросила Толя.
— Пива хлебнул неудачно, — мрачновато ответил Мольберт, кисточкой почёсывая за ухом — он стоял у этюдника, набрасывая лужу, схваченную корочкой льда, она застыла рядом, наблюдая, с белой чашечкой кофе. — Это была плохая история. Но в том, что я здесь, есть и плюсы.
— Серьёзно? — Анатолия изогнула бровь, обвела рукой низкую комнату и мглу за окном. — Затхлый городок… Зима девять месяцев… Переделье…
— А ещё — ты, — сосредоточенно работая кистью, не смея поднять на неё глаза, произнёс Мольберт.
Долгую минуту в комнате раздавался только скрип колченогого этюдника. А потом взвизгнул крючок, грохнула дверь, об пол стукнули тяжёлые сброшенные ботинки.
— Миша, — побледнела Анатолия. — Рано сегодня… Ал, иди давай. Не надо, чтобы он тебя тут видел...
Мольберт захлопнул этюдник, перемахнул через низкий подоконник, мягко приземлился на заброшенную клумбу. Анатолия протянул ему пенал с кистями, шепнула:
— Спасибо…
И тотчас захлопнула окно.
Однажды вечером он постучал к ней, прижимая к груди свёрток с шифоновым шарфиком — не воплощённым, настоящим; купил на заезжей ярмарке. А она не пригласила его внутрь — только нерешительно вышла на лестничную клетку, плотно прикрыв дверь. Стоял глубокий, дождливый декабрь, Мольберт стянул шинель, накинул ей на плечи:
— Замёрзнешь! Глупенькая… А я… купил тебе.
Она посмотрела на шарф, улыбнулась, но как-то отстраённо, глядя в темноту лестницы.
— Можем пройтись? Недолго? — обеспокоенно спросил Мольберт.
— Если только недолго, — шепнула Анатолия.
На улице она повеселела, слегка разрумянилась от ветра.
— Всё в порядке?..
— Да… да...
Не смея больше расспрашивать, Мольберт замолчал. Они прошлись по бурому, подёрнутому сладкой гнилью ковру из листьев (снег никак не ложился), добрались до самого пустыря, за которым темнело Костяное Переделье.
— Кстати… Почему Костяное? — спросил Мольберт, вглядываясь в серебрящуюся от луж тропинку. — Переделье — понятно. Но Костяное?..
— Есть такой фольклорный персонаж — Баба-Яга, костяная нога. Из кости. Мёртвая. Многие же думают, что за Передельем смерть.
— А-а...
Анатолия поддела туфлёй налипший лист. Дёрнула плечом.
— Нет смерти.
— Откуда ты знаешь? — нервно спросил Мольберт. — Смерти нет, а кто тогда оттуда косит солдат? Зачем тогда караулы, зачем гарнизон?
— Колотят в туман почём зря, — резко ответила она. — Нет там ничего! Ты вот тут без году неделя, а уже во все сказки веришь…
А как было не верить, когда Пал Палыч, икая, рассказывал про матросов с прахом на синих кителях, про чёрных змей с железной чешуёй, про туманные батальоны, выходившие из-за ворот и вступавшие в бой с подоспевшими мальчишками-новобранцами…
И, может, Мольберт ни во что бы не верил, если бы потом Палыч не засыпал мертвецки и не вскакивал среди ночи от кошмаров — чудилось, что снова в прошлом, снова тот самый мальчишка, который идёт воевать с туманом из-за костяных ворот…
— А откуда тогда все эти сказки, Толя? Если бы не было ничего в этом Переделье, стали бы тут держать целую часть?
— Нет там ничего. Ничего нет, — убеждённо сказала Анатолия, ловя на ладонь клубы вечернего тумана. — Кроме расщелины с газом-галлюциногеном.
— С чего это ты взяла?
— Делала пробы тумана.
— И не говорила ничего? Никому?
— Кто ж примет такие доказательства! Туман и то не каждый вечер. Пробы можно делать, когда ветер из-за ворот дует в нашу сторону… Кроме того — это далеко, мало... Скажут: доказательная база слабая.
— А что делать, чтобы стала сильной?
— Пойти туда, — Анатолия махнула за ворота. — Взять пробы, чтобы всё по науке, при свидетелях.
— И что же мешает?
Она остановилась, глянула на Мольберта недоверчиво, ядовито:
— Если ты мне выделишь финансирование на научную экспедицию, я с удовольствием раз и навсегда развею миф о Костяном Переделье.
— Но слушай… Если ты права, Протекторату ведь гораздо выгоднее один раз проспонсировать исследования, чем постоянно содержать тут, в тылу, целую часть…
— А ты докажи им. Никто не хочет туда соваться. Слишком много сказок — таких, в которые верит даже нобилитет.
— А ты, значит, не веришь.
— Не верю. Ни в какие сказки я, Альберт, не верю. Я ведь пыталась… Пыталась туда попасть. Но солдаты не дали. Перехватили у самых ворот...
— Попроси мужа, — сглотнув горькую ревность, предложил Мольберт. — С санкцией коменданта пустят...
Она молча, с жалостью улыбнулась. А потом дёрнулась так, что с головы упал платок, и рванула обратно:
— Миша! Потерял уже… Мы уже полчаса ходим…
На бегу крикнула:
— Ал! Иди домой! Завтра… завтра поговорим!..
Шифоновый шарфик так и остался у Мольберта за пазухой.
Вечером, застав хозяина трезвым, Мольберт решился.
— Павел Павлович, — задержавшись в проёме его комнаты, окликнул он. — Павел Павлович, можно?
— Валяй, художник.
— Павел Павлович… Я про Анатолию… Сергеевну. Она пытается понять механизм воплощения. Даже если мы предположим, что это… как бы… ну, что это не волшебство, не дар, а научное явление. Зачем ей это?
Пал Палыч западлисто улыбнулся. Поскрёб подбородок. Изрёк:
— Она — учёный.
— Но я не верю, что она только ради знания…
— Намекаешь, что Толечка хочет поставить воплощение на поток? А что… вот жизнь была бы. Нарисовал батарею танков — вот тебе, стоят в поле. Нарисовал сухпайков сто штук — забирай! Или вообще — скатерть-самобранку. А то — мужа нового себе нарисовать, а? Толечке-то бы пригодилось… А? — Пал Палыч хихикнул. — Представляешь? Тебе ли не представлять!
— И всё-таки, зачем она?..
— Мне кажется, — понизил голос директор, — кажется, есть у неё какая-то мечта. Такая, что она сама хочет нарисовать.
— Так пусть бы кого-нибудь попросила из художников. Хоть меня.
— Не, — махнул рукой Пал Палыч. — Тут дело в другом: либо она никому доверить не может… Либо просто никто другой, кроме неё, этого не знает, не изобразит. Вот Толя и хочет понять, как что. Чтобы самой суметь.
— Так этак-то любой захотел бы.
— А любой и хочет. Только лень силы тратить, время… Вот ты — у тебя есть дар, а всё равно не всё воплотить можешь. А представь — потратить целую жизнь, чтобы понять, в чём рыбка кроется. Научиться этому. А потом раз — и то, что нарисуешь, не воплотится. Обидно? Обидно. А Толечка — она бесстрашная фанатичка. Она не боится, что упрётся в разочарование. Она верит в победу.
Пал Палыч встал. Плеснул в кружку ещё.
— И я — верю!
Опрокинул. Выдохнул.
— Верю в нашу победу! Скоро, Альберт, скоро Протекторат всех накроет, и останется из военных одна наша часть — передельная-раритетная! Так-то! А теперь вали к себе, художник, мне ещё в редакцию «Ведомостей» сходить…
Пал Палыч снова западлисто улыбнулся, прищёлкнул пальцами и залпом допил свою бодягу. А Альберт тихонько ушёл к себе. Лежал на койке, слушая, как собирается директор, как хлопает дверь. Глядел, как по потолку пробегают длинные тени. Ворочался. Думал. Прав Пал Палыч, и Толя просто что-то особенного хочет для себя? Или рыбка где-то в другом, в другом кроется?..
Он застал Анатолию мастерящей шляпку: она приматывала на живульку бусины к старому фетру. Глаза у неё припухли («Муж»), но выглядела Толя довольной, даже весёлой («Нет. Не муж»). Мольберт пробрался к ней, переступая через кипы бумаг, калькуляторы и карандаши.
— Я сделала, — опередив вопрос, сказала она и перекусила нитку.
— Шляпку?
— Открытие!
— Какое?
— Я поняла. — Толя круто обернулась к Мольберту вместе со стулом. Щёки горели, а покрасневшие глаза сияли. — Я поняла, что за сила воплощает твои рисунки. Твои, чужие… Всех, у кого есть дар.
— Ну и что же?
— Есть ресурс… просто некое… нечто. Как ген. Это как первичное зерно, из которого, облечённый в краски, может вырасти, а может не вырасти реальный объект. Всё дело в том, достаточно ли веры, — страстно проговорила она. — Ну и в размерах, конечно. Чем меньше объект — тем меньше нужно веры. А вера — это просто вера, вера в то, что этот предмет существует… Она складывается из веры тех, кто видит нарисованное… Но я расскажу… Я всё расскажу по порядку, с доказательствами, со всей экспертизой… Во Дворце Протектората на следующей неделе. Вторник. Я предоставила в комиссию все материалы — через Мишу. Мне бы они отказали, а через него — не могли. Это будет публичная защита…
— А ты уверена, что получилось? Ты уже воплотила что-нибудь?
— Нет. Я, к сожалению, не смогу этого сделать. Без дара всё-таки не обойтись.
— Так чем же тогда ценно твоё открытие?
Окрылённая победой, Анатолия нисколько не обиделась на резкость.
— А разве это не ценность само по себе — понять, как работает механизм? — И добавила с виноватой, испуганной ноткой: — Во вторник… Публичная защита. Ты представляешь?
— А что муж?
— Что муж, — тихо сказала Толя. — Муж наконец сделал то, что был должен. Я, может быть, все эти годы терпела, только чтобы…
Махнула рукой. Прижала к глазам ладони и, глядя на Мольберта сквозь пальцы, попросила:
— Ай, всё! Дай-ка ножницы!
— Мышью, мышью тихой сидел, а какие шашни крутил! А я с самого начала чуял… Я тебя вывел, голубчик, на чистую воду...
Мольберт спросонья никак не мог сообразить, что случилось. Что-то ткнулось в лицо; он заморгал, сфокусировал взгляд и понял, что Пал Палыч тычет в него свежим номером «Известий». С выпуклой, нелепо выгнутой фотографии на Мольберта глядел он сам — за руку с Толей. Они стояли вдвоём, в сумерках, в её подъезде, да, было дело, ещё осенью, да, но кто, откуда, когда?..
А потом он увидел всю статью, с другими фото, с выдержками из его записок и дневника…
Вырвал газету из жирных пальцев Пал Палыча, просмотрел наискосок, вспыхивая, чувствуя, как горячеют щёки, а перед глазами пеленой встаёт ало-белая ярость. Наконец дошёл до подписи: «...за предоставленные материалы редакция благодарит директора Института торсионный полей Шуматько П.П.»
— Давно следил, — с упавшим сердцем выдохнул Мольберт, закатывая рукава.
— Так и ты, голубчик, давно с ней ворковал! Всё выспрашивал… вынюхивал… Я ведь сначала думал — робонький такой солдатик… А потом, как ты по ночам начал пропадать...
Мольберт точным ударом зарядил Палычу в лоб, схватил за грудки и с силой оттолкнул. Помчался к Анатолии. Кто-то окликнул его по пути — пора было на плац, — но он, задыхаясь, не слыша, летел к домику в глубине аллей. Впервые он бежал туда открыто, ногой распахнул обшарпанную парадную дверь. На крыльце что-то ударило в затылок, потекло по волосам… Мольберт, задыхаясь, запустил руку в волосы — липкое, скользкое... Яйцо? Неважно… Важно было добраться до Толи.
Он взбежал по крутой лестнице, промчался через анфиладу соседских комнат и ворвался в её комнатушку в самом углу.
«Хорошо бы не встретить мужа, — привычно всплыло в мозгу, но тут же перебилось яростной, густой злобой: — Встречу — врежу!»
— Толя!
Она сидела за туалетным столиком, запустив пальцы в волосы — растерянная, очень прямая, белая, как стена. Спросила, не здороваясь:
— Уже знаешь?
— Анатолия… Толечка! Не ходи на защиту. Я прошу! Тебя освистают!
— У меня никогда больше не будет такого шанса. Я всё жизнь положила на эту тему... Я пойду.
Она рывком встала и накинула плащ. В строгой юбке и пиджаке Анатолия казалась совсем тростинкой. Глядела гордо и спокойно, как будто светилась вся.
— Я пойду, Альберт. А ты иди… иди. Служба…
— Я уже опоздал, — мрачно произнёс он. — Без увольнительной, без санкций... Штрафные. Губа. Неважно. Я с тобой.
Она сухо, по-чужому усмехнулась.
— Как знаешь.
— Возьмём зонт, — велел Мольберт. — Будет жаль, если в костюм попадёт яйцо.
...«Низшая женщина» было лучшим из того, что они услышали по пути ко Дворцу Протектората. Несмотря на зонт, его шинель, её плащ и юбка были перепачканы мерзостью. Он надеялся, что Толя хотя бы убедится: во Дворце показываться нельзя, в лучшем случае её ждёт остракизм… Но она шла, холодно сияя, словно отталкивая от себя волны грязи и ярости. Она казалась неживой, неземной. Нарисованной.
— Толя, — сказал он в последний раз, на усеянных листовками ступенях Дворца Протектората. — Анатолия… Не надо…
Но она вошла, и он вошёл следом, и его словно не видели в её сиянии. Он проник в зал, где, несмотря на скандальную статью, собрались все, кто должен был прийти на защиту. Он думал, её будут бойкотировать, но всё шло слишком правильно, слишком прилично. Её выслушали, ей предоставили всё оборудование, ей задавали вопросы, ей даже аплодировали — а потом они удалились, чтобы вынесли решение.
Губернатор, ставленник Протектората, вышел первым. Он сел за широкий стол сбоку от сцены, разложил перед собой несколько бумаг. Следом появились остальные члены комиссии. Зал замер. Мольберт стоял за чёрной бархатной шторой, взглядом подпирая Анатолию.
— Прошу, — только и сказал секретарь, указывая ей на губернатора. Анатолия, пошатываясь, подошла к столу. Губернатор взглянул на неё и медленно отвернулся. Бумага с печатью осталась на столе между ними. Анатолия звонко произнесла:
— Если уважаемый губернатор не желает отдать мне патент на…
— Господин губернатор отдал бы патент без колебаний, — тут же перебил её секретарь, — но он не желает пожимать руку падшей женщине…
Анатолия дёрнулась, чтобы схватить патент, но секретарь оказался проворней.
— Вон!
Мольберт выскочил из-за шторы и бросился к ней. Схватил за руку, поволок к выходу... Анатолия спотыкалась. Они бежали по бесконечной стеклянной галерее Дворца Протектората, вокруг сыпались и звенели стёкла — с улицы бросали камни, и сквозь дыры прорывался рёв собравшейся под стенами толпы.
Мольберт не помнил, как они выбрались. Глаза застилала ярость — поступить так с ней, с Толей, в день её торжества…
— Я знаю, что делать, — выдохнул он, усадив её на шаткую табуретку в кладовой её дома. — Я знаю, Толя. Я нарисую нам с тобой свой дом. Никакого насилия. Никакого осуждения. Без Протектората. Без Миши. Никто не доберётся до нас!
— Где? Где ты его нарисуешь? — пробормотала она, всё ещё стараясь держаться, цепляясь за разорванный плащ, чтобы унять дрожь.
— За воротами, — равно, спокойно, чувствуя, как леденеет всё внутри, ответил Мольберт. — Никто не посмеет сунуться за Переделье!
— Ты же не веришь, что там нет ничего…
— Я тебе верю. Тебе верю! — крикнул Мольберт. — Я нарисую…
— Ты не сможешь воплотить, — нервно произнесла она. — Никто не поверит в это… В дом за Передельем…
— Я поверю.
— Этого мало…
— Ты поверишь, — выплюнул Мольберт. — Этого — хватит!
Он оглянулся в поисках бумаги. Старые газеты, исписанные тетради… На нижней полке нашёлся надорванный кусок обоев.
— Карандаш… Или хотя бы уголь… Толя!
В двери кладовой заколотили.
— Это он! — вздрогнула Анатолия и вцепилась в Мольберта.
— Толя, мне нужно что-то, чтобы рисовать! — глотая буквы, прошептал Мольберт. — Хоть что-то!
Она судорожно кивнула, сунула руку во внутренний карман пиджака и протянула ему маленький, скользкий тюбик помады.
Он скрутил пластмассовую крышку и принялся яростно, как никогда прежде, слыша совсем рядом её дыхание, набрасывать на рельефном рулоне обоев дом, и сад, и тихое озеро там, за воротами, и алые солнечные пятна на воде, и будущие ночные звёзды.
В дверь ударили изо всех сил. Потом всё стихло. А затем — по свисту Мольберт понял это раньше, чем оно произошло, но даже не оторвался от листа, — рубанули топором. Анатолия завизжала.
— Почти… почти… — выдохнул он сквозь зубы, заканчивая с самым главным — тропинкой к дому. — Почти!
Когда сквозь узкие щели в чулан брызнул бело-зелёный свет, он схватил её руку и шепнул, касаясь губами уха:
— Ты мне веришь? Ты идёшь со мной?
В ту секунду, когда двери рухнули под напором топора, он закончил, встал во весь рост и заслонил её собой.
— Ты знаешь, — звенящим голосом крикнул он коменданту, — ты знаешь, я могу нарисовать что угодно! Твоя жена поняла, как воплотить любой рисунок! Я могу нарисовать батарею танков… землетрясение… обвал… Я могу нарисовать твою смерть! Не смей её трогать!
Комендант отшатнулся, сбитый его напором, топор с грохотом упал на половицы.
— Не смей! Мне нужна санкция, — лихорадочно блестя глазами, наступал Мольберт. — На нас двоих… Выход в Переделье! Сейчас же!
Муж Анатолии отступал, немо открывая и закрывая рот.
— Я нарисую! Тебя! В аду! — орал Мольберт, тыча его в грудь сначала пальцем, потом кулаком. — Если ты сейчас же! Не дашь мне… Эту проклятую санкцию! Сейчас же!
Михаил, пятясь, уткнулся в стол.
— Сейчас! — крикнул Мольберт, и капельки слюны упали на жёлтые бумажки.
Он нависал над комендантом, рыча, ощущая клокочущее всемогущество, пока тот подписывал какой-то бланк, шлёпал печать...
— Дрожащая тварь, — выдохнул Мольберт, боясь, что хлынувшая, так долго запертая ненависть задавит, задушит, как густые чернила. — Ну! Ну!!
Комендант протянул заполненный бланк. Мольберт проглядел его, скомкал, сунул за пазуху.
— Толя!
Не выпуская её руки, загораживая своей спиной, он вывел из комнаты.
— Давай! Давай! — тонко крикнул вслед Миша высоким, цыплячьим голосом. — Идите! Туда вам и дорога! Шизики! Давайте!
Мольберт не слышал; он ловил только сбивчивое дыхание Анатолии, шёпот, дробные шаги...
После солдаты говорили, что кто-то видел на дороге хлястик её пиджака, кто-то — его фуражку-протекторатку. Квартирная хозяйка подобрала у кладовки огрызок помады и долго думала, нужно ли сдать коменданту. Оставила себе.
...Их видели часом позже у ворот Передела — но это опять были не то слухи, не то байки: её локон, его коробка с красками. Говорили, что они ушли за ворота, что их погубил зловонный туман, что их слопал дракон, вышедший оттуда, из страны чёрных сказок…
Скрипнула калитка. Дул ветер, пахло солью и морем, под ногами хрустел серовато-белый рассыпчатый песок. Ветер качал пальму. Даже сквозь закрытые веки проникал ослепительный блеск волн.
Кричали чайки.
— Можешь открывать глаза, Толя.
Автор: Дарина Стрельченко