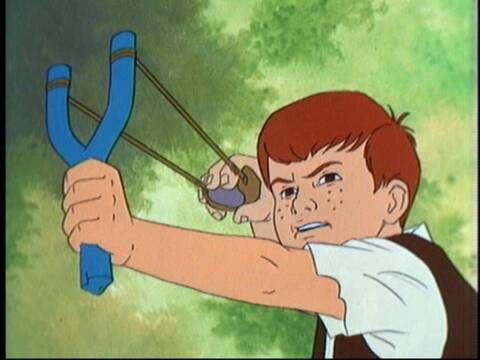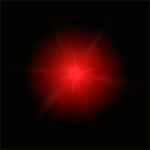Большой концерт для одного зрителя
Орудие дьявола – женщина эта.
Она ослепила собою поэта.
По скверу прошла – получилось по сердцу,
Оставив на нём след своих каблуков.
И что тут ни делай, и как ни усердствуй,
А рухнул поэт со своих облаков
В расщелину страсти, забыв, что женат он,
И венчан, и дети домой его ждут.
Что кончиться может семейным распадом.
Да, видно, рассудок беспомощен тут.
Он шёл за ней следом до самого дома.
Узнал, что зовут Валентиной её.
И полный бесовской любовной истомой
До самых краёв, был готовым на всё..
Морок
Автор: Владимир Зюськин
Я болен, и болен серьёзно (читайте: смертельно). Этот рассказ написать я, возможно, ещё сумею, а вот напечатать его — вряд ли: не хватит сил. На это мне намекнул сосед — потомственный вредитель Рабинович.
На днях он позвонил в мою дверь и тут же отправился в ванную — мыть руки. Не знаю, чем Рабинович их выпачкал, но плескался он долго, и даже несколько раз потревожил сливной бачок. После чего зашёл в комнату, сурово откашлялся и взялся за мой организм. Пощекотал спину фонендоскопом, старательно простучал грудную клетку, словно бы рассчитывал найти в ней клад. А потом начал мять мою бедную печень холодными пальцами интеллигента.
— Здесь больно? А здесь?.. Теперь покажите язык… Что - то, батенька, мне всё это не нравится, — честно признался Рабинович. Достал из кармана чистый бланк и забормотал по латыни. — Dа tales dozes… quantum satis?… Numero quinta… Или всё - таки septema? — Здесь он задумался на секунду. — А выпишу-ка я вам numero decem, чтобы наверняка! — И добавил, протягивая рецепт. — Завтра же закажите в аптеке. Per oris , и всё как рукой… Ну, пока. Выздоравливайте! (1)
Я хотел заплатить за визит, но Рабинович решительно отказался. Торопливо откланялся и ушёл, унося с собой запах палаты № 6. А я остался — один на один со своим недугом.
Скверно, если врач не берёт за визит. Это тревожный симптом. Похоже, и в самом деле положение у меня неважное.
Всё плохо в этом мире. И сам я давно плохой — с тех пор, как меня по ночам стали посещать галлюцинации.
Вот и сейчас… там, на книжном шкафу: я вижу глумливого старичка с лицом мальчика - переростка. Откуда он взялся? Не знаю! Не иначе как моя больная душа связала его, словно варежку, из обрывков кошмарных сновидений.
Сквозь полуопущенные ресницы я вижу, как старичок сучит ножками и сжимает кулачки. По его кукольному личику гуляет порочная улыбка. Он щурится на лунный свет и говорит, говорит… Он — один из симптомов болезни моей, горячечная её половина.
– 'Госкошный 'гассказ я на днях написал… богемный 'гассказ, — сладострастно тянет старичок, старательно при этом грассируя. — Такая, знаете ли, девушка… сущий 'гебёнок!.. в духе Володи Набокова. И что же? Влюбилась. В кого, как вы думаете? В п'гостого де'гевенского мужика! Ну очень п'гиличный 'гассказ, вы знаете, ну очень…
Он начинает говорить про известный журнал и поименно обругивать тех, кто в нём работает. Он рассказывает дикую историю про какую - то Маргариту Павловну, которая в прошлую субботу, отправившись с мужем за грибами, заблудилась в лесу. («Я вам скажу по сек'гету: это она на'гочно так сделала — чтобы пе'геночевать в избушке. С лесником! Нет, вы п'гедставляете?!»). Он глумливо хихикает у себя наверху, и ночь хихикает вместе с ним, и лунный блик подрагивает, как желе, на стеклянной дверце шкафа….
Я сжимаю голову ладонями и надолго зажмуриваю глаза. А когда наконец - то решаюсь их открыть, глумливого на шкафу уже не вижу. Он растворился в полумраке комнаты, рассеялся, ушёл в никуда, оставив после себя медный привкус застоявшегося воздуха.
— Откуда все это? — слышу я свой хриплый голос. Ответа не жду, ибо знаю ответ, и знаю давно. Он поселился в моём мозгу с полгода назад и называется… Я не силён в латыни. Профессор Рабинович мне что-то объяснял насчёт globuli cerebri… (2) в общем, забыл. Одно лишь я знаю точно: с этим долго не живут. Даже если иногда и хочется.
Вот опять… Что там? кто?.. Да, она уже здесь. Можно даже притронуться к ней рукой, но лучше этого не делать. Нужно просто лежать — и слушать. Она сама потом уйдёт. Но сначала прольёт свой яд на мою измятую душу.
— Вчера я вашего Хворостянского отправила в полный игнор! — слышу я прокуренное контральто (3). — Он же козёл, Хворостянский… Типичный козёл! Говорит, что я не умею писать, ты представляешь? Да как он смеет?! Меня в «Бурде» двадцать рад печатали… я в «Лизе» целую колонку веду!..
Какая «Лиза», господи! Причем здесь «Бурда»?! Я обхватываю ладонями виски и начинаю судорожно вспоминать, где и когда в последний раз слышал эти два слова — «Бурда» и «Лиза». Ах, да… это было в июле, в одной квартире на Новослободской… Поэт - метафорист, на букву, кажется, Е. Да не оттуда ли явилась ко мне ночная галлюцинация?
Снова это контральто:
— Тогда я Хворостянскому и говорю: вы моё - то последнее произведение читали? Нет? Вот когда прочитаете, тогда и будем говорить. И в игнор его, козла, в игнор! Пятый день на его звонки не отвечаю.
Лживая и порочная, вульгарная и стервозная… На улице Новослободской, в квартире метафориста Е., однажды настигло меня это чёрное платье и крепко прижало к стенке. Дышало на меня шерри - бренди, оглушало контральто… И вот — вмёрзло в память, как снулая рыба в лёд на тёмной реке Тобол. И не отпускает меня до сих пор. Всё держит, держит…
А тогда, на квартире у Е. …
— Ты сказал, «на квартире у.е.»? — это снова звучит в ушах ненавистное мне контральто. — Ну конечно! У.е.! Вот, смотри: Джефферсон… Это — Грант… Вот опять Джефферсон…
Тридцать девять и девять. А может, и сорок. С «хвостиком».
… А тогда, на квартире у Е., я два раза наливал ей шампанское в липкий фужер, и два раза оно выдыхалось, оставаясь не выпитым. Та, которая в чёрном, смотрела на метафориста, и… что ей вино? Эту ночь она мечтала провести среди синекдох и аллитераций (4).
Гости пили и ели, делились столичными слухами (нет, не со мной!). Гениальный метафорист был задумчив, рассеян и неприступен. У него только что вышла подборка стихов в заграничном журнале, и старик Джефферсон улыбался поэту с мелованных страниц. Хотя я могу и ошибаться: возможно, это был сам Бенджамин Франклин.
Я пытался припасть к разговору, как в жажду припадают к ручью, но пустая вода чужих слов обходила меня стороной. Я пробовал рассказывать про тюменские болота и приморскую тайгу, но меня даже вежливо не слушали. И тогда я ушёл на кухню. В старых обоях таилась чужая жизнь, и я ей был нужен не больше, чем новенькая заплата.
Тусклый свет делал моё одиночество невыносимым. Груда грязной посуды валялась в мойке, бесконечно далёкая от аллитераций и синекдох. И тогда я решил доказать… показать… наказать… Мне многое вдруг захотелось! Я закурил папиросу и отчаянно засучил рукава.
Посуды было много, омерзительно много. Не иначе как пол - Москвы столовалось в то лето у метафориста. С щербатых тарелок я смывал синекдохи, которые прекрасно идут под селёдку с зелёным лучком. А с вилок старательно счищал присохшие к ним литоты (5).
Там, в пропахшей шампанским комнате, среди первых и равных, сидела Она, распущенная и лживая. А здесь, в чужой равнодушной кухне, я воевал за право оставаться таким как есть. Без Франклина и мелованных страниц, но с желанием жить среди чистой посуды.
Домыл последнюю тарелку. Поставил её на стол. И пошёл к тем, кто в комнате. Объясняться.
Ave, Cezar!.. (6) Ну и так далее, уже не по латыни. С добавлением малопонятных слов и выражений (я всегда был на них горазд).
А ещё я сказал:
— И вот все вы, сидящие в комнате, считаете себя интеллигентами? Это с грязной - то посудой в раковине?!
Ну, типичные «Печки - лавочки». Натуральный Вася Шукшин.
А ещё я, мне кажется, выругался. Но это вряд ли.
Стало тихо. Никто не поднялся на мой вызов. Эти восемь, сидевшие в комнате, знали Москву, да не работали в Лучегорске (пара сотен досрочно освобождённых и строительство Приморской ГРЭС). Никто не решился возразить мне — заезжему провинциалу, случайно попавшему в изысканную компанию. А тот, который привёл меня сюда, постыдно отвел глаза.
Как давно это было! А вот же, пришло, накатило… Смесь духов, шерри - бренди и одиночества, однажды испытанного в квартире поэта Е. Жив ли он? Я не знаю. Но можно сходить на Новослободскую. Постоять у двери — и уйти, как тогда, в июле, унося в душе горечь от синекдох и литот…
Лёгкий шорох у изголовья. Контральто:
— Мы расстались через неделю… так надоела посуда! Я ушла к переводчику. А потом был один драматург… Нет, конечно, не Хворостянский. Он же козёл! Да, в игноре… Говорю же, полный игнор!..
Я протягиваю руку за голову и нащупываю змеиный шнур от лампы. Тот извивается в пальцах, но быстро сдается и уступает. Непослушной рукой я тяну его вниз. Вспыхивает бра, и отгоняет от меня галлюцинации.
Это что? Да, таблетки… Я запиваю их оставленной с вечера водой и облегчённо откидываюсь на подушки. Если профессор не врёт, скоро мне станет легче. Я так думаю, ближе к утру.
Прежде чем сон успевает взять меня в ватные ладони, я успеваю обвести взглядом комнату. Ободранная мебель робко жмётся к стенам. Стопка рукописей пылится на книжном шкафу…
«Memento mori!» — звучит у меня в ушах голос Рабиновича. Он всегда говорит по латыни, когда не хочет, чтоб его понимали. И я делаю вид, что и в самом деле его не понимаю.
Иначе мне до утра — не дожить…
Морок
Автор: Сергей Чевгун
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(1) забормотал по латыни. — Dа tales dozes… quantum satis?… Numero quinta… Или всё - таки septema? — Здесь он задумался на секунду. — А выпишу-ка я вам numero decem, чтобы наверняка! — И добавил, протягивая рецепт. — Завтра же закажите в аптеке. Per oris , и всё как рукой… Ну, пока. Выздоравливайте.
забормотал по латыни. - Да сказки дремлют ... сколько нужно ? Пятое число... Или всё - таки перегородка ? — Здесь он задумался на секунду. — А выпишу-ка я вам номер десять, чтобы наверняка! — И добавил, протягивая рецепт. — Завтра же закажите в аптеке. Устным путём, и всё как рукой… Ну, пока. Выздоравливайте.
(2) Профессор Рабинович мне что-то объяснял насчёт globuli cerebri - Профессор Рабинович мне что-то объяснял насчёт мозговых шариков.
(3) вчера я вашего Хворостянского отправила в полный игнор! — слышу я прокуренное контральто - Контральто (итал. contralto) — самый низкий женский певческий голос с широким диапазоном грудного регистра.
(4) Эту ночь она мечтала провести среди синекдох и аллитераций.
Синекдоха — это троп, разновидность метонимии, стилистический приём, при котором название общего переносится на частное. Реже — наоборот, с частного на общее.
Примеры синекдохи:
«Всё спит — и человек, и зверь, и птица» (Гоголь);
«Мы все глядим в Наполеоны» (Пушкин);
Аллитерация — это приём звуковой организации стиха, состоящий в повторении одинаковых или сходных согласных в начальных слогах слов. В упрощённом понимании — всякий повтор сходных согласных. Аллитерация служит:
подчёркиванию ритма и звуковому скреплению строки;
установлению дополнительных перекличек между словами, соотнося их по смыслу.
Примеры аллитераций:
«Осада! приступ! злые волны, / Как воры, лезут в окна» (А. Пушкин, «Медный всадник»).
«Лет до ста расти нам без старости. / Год от года расти нашей бодрости. / Славьте, молот и стих, землю молодости» (В. Маяковский «Хорошо!»)
(5) А с вилок старательно счищал присохшие к ним литоты - Литота (от греч. litotes — простота, малость, умеренность) — стилистическая фигура, оборот, в котором содержится художественное преуменьшение величины, силы значения изображаемого предмета или явления. По - другому литоту называют обратной гиперболой.
Примеры литоты:
«узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки» (Н. В. Гоголь, «Невский проспект»);
«ваш шпиц — прелестный шпиц, не более напёрстка!» (А. С. Грибоедов, «Горе от ума»);
(6) Ave, Cezar!.. (лат.) - Поздравляю, Сесил! Сесил (английское Cecil) — фамилия, имя и топоним, происходящие от древнеримской фамилии Caecilius (от латинского caecus — слепой).