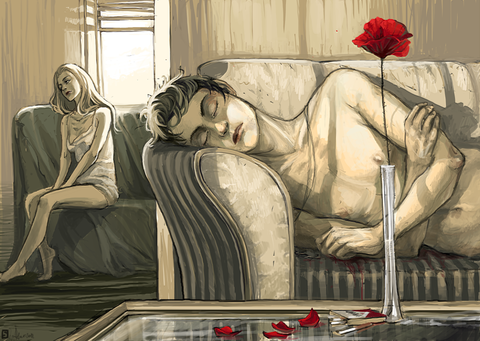Миллионщица (©)
Протёртый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ тёмно - зелёный
Завил широкое окно.
От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны уклад
Рукой любовной кустаря.
И у окна белеют пяльцы...
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.
А сердцу стало страшно биться,
Такая в нём теперь тоска...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.
из второго сборника стихотворений Анны Ахматовой - « Чётки »

Проснулся я рано и вышел со двора на улицу.
Здесь у ворот я присел на широком камне, поставленном на двух кусках дубовых обрезков, плотно закутавшись от утреннего холода в пальто. Деревенская улица мне была знакома, и мне нечего было разглядывать в ней.
II
В это время к дому приближалась богомолка; она шла скорыми, проворными шагами, нагнув лицо к земле и проворно работая палкой.
Поровнявшись со мною, она остановилась, спросила не то у меня, не то у кого-то невидимого мне, "пущают ли?" - и, как бы не расслышав моего утвердительного ответа, села на другой камушек и с трудом перевела дух.
Лицо этой старушки заставило невольно обратить на неё внимание: такое красивое, умное лицо не часто приходится встречать в простонародных странницах.
Чёрные, острые, наблюдательные, умные глаза придавали её хотя и красивому, но утомлённому и уже заметно не молодому лицу оттенок умной задумчивости.
Но когда я заговорил с ней, в этих умных глазах, в пристальности, с которой она уставила их на меня, и быстроте, с которой она вдруг опускала их, смотрела в сторону, я заметил что-то странное, как будто в голове её не совсем было ясно.
Я спросил её - "откуда она?"
Она отвечала, что издалека, что идёт к угоднику, а оттуда отправится тотчас же в другое место. Я заметил ей, что такие частые и далёкие переходы утомительны и вредны, что она вот и теперь ещё не отдышалась порядком.
- Иному человеку, - сказала она в ответ, - и жить-то нельзя, покуда не умучает себя! Покуда умучил себя хорошенько, будто и можно на белый свет смотреть, а дай-ка ему отдых и покой - так он!..
Она отвернулась в сторону и махнула рукой.
- Что ж он? - спросил я.
- А то, - сказала она, глянув на меня тем странным взглядом, в котором виделось что-то ненормальное в её сознании, - а то, что бес в нём просыпается, да! Ну-ко, поди, сладь с ним в то время!
- Бес?
- Да! дьявол пробуждается! проснётся и начнет обозлять тебя на людей. Ну, и взбесишься, полезешь на всех с кулаками. Разве так можно с добрыми людьми жить?
- А может быть, люди-то в самом деле не добрые, а дурные? - начал было я, но богомолка, быстро прервав меня, сказала:
- Кому ты это говоришь? Я не от зубов хожу исцеляться, - зубы у меня все целы и здоровые, как жемчуг; не детей я хожу просить, - мужа у меня нету, умер; опять и обещания никакого я не давала, - зачем мне бегать так-то по тысячи вёрст? И дома можно молиться! А уж, стало быть, я знаю его, стало быть, он надо мной забирал силу! Я знаю это! Мне теперь пятый десяток идёт, а он меня с детства во власть взял! От кого я и родилась-то, не знаю. Матушку свою помню, а отца никогда не видала. Не то беда, что "незаконная", а то беда - чья? вот что! Матушка, покойница, бывало, говорит: "Чья ты, Аграфенушка?.." - "Не знаю, маменька" - "И лучше тебе не знать!"
- Неужели ты в самом деле веришь, что есть какой-то бес и может войти в человека?
- Что ж я, с ума, что ль, сошла? Покойница матушка и сама-то измучилась от него... Это я уж потом от тётки узнала: "Ходил, говорит, он к ней, к твоей матери, каждую ночь, целую зиму... И слышно, говорит, за перегородкой разговор идёт шопотом... Подкрадёмся, - говорят; вскочим с фонарём, - а там никого нет, только мать бьётся как в лихорадке. Измаялась, иссохла, как щепка, отвезли потом к Тихону Задонскому - ну, он и вышел! Вот и со мной тоже... И мать-то всегда боялась, что и меня он иссушит. А ты говоришь, люди плохи!.. Кроме добра мне ничего никто не делал, я и беситься-то начинаю, когда мне жить станет покойней! Вот зиму нонешнюю купцы Собакины как меня ублажали, а что ж? Переругала всех, расплевалась со всеми и ушла! вот и бегу! Ох, друг ты мой, не учи! - знаю! Он меня с самого младенческого возраста стал соблазнять-то! Я ещё была девчонкой, в игрушки играла, а уж он вокруг меня шмыгал!..
- Ну, какой же он? Есть у него какое - нибудь обличье? На кого он похож?
- Да ни на кого не похож. То будто и совсем его нет, а так, невзначай, обхватит, - на улице ли, на речке ли, - обхватит, расцелует. "Красавица ты! Миллионщица будешь!" Умчит в лавку, игрушек, гостинцев целый подол насыплет и сгинет! Играю в анбаре, лакомлюсь, а он округ ушей всё мне шепчет, в сердце впивается, голову мутит гордостию. Маменька спросит: "Откуда гостинцы, кто дал?" - "Не знаю!" - "Видела ты его?" - "Нет, не видала!" Вот матушка и стала пугаться. "Крестись, крестись, Аграфенушка, как этак-то соблазнять тебя будет!"
- И ещё было?..
- Всю жизнь он меня ест - поедом! Купить меня даже у матери хотел! Сначала объявился барыней... Играем мы, девчонки, на улице, идёт барыня, а с ней другая... Остановились, расспрашивают, разговаривают... Он мне каждое слово подсказывает; говорю, сама не знаю, откуда у меня что берётся? "Ах, если бы взять её от матери!" Тут я испугалась, закричала, они и сгинули! Тут уж их, должно быть, несколько было!
- Да может быть это в самом деле была барыня? Бывают бездетные, берут чужих детей?
- Барыня? Вот какая она была барыня! Прибежала я в избу с улицы-то, - а маменька-то моя едва жива. "Опять, говорит, хотели тебя отнять от меня... Приходил, говорит, бородатый какой-то, говорит: "Деньги, говорит, дадим, на всю жизнь хватит, - только отрекись от дочери на веки веков!" Маменька как услыхала это, да крестом его, да закричала: "отойди от меня, сатана!" Он захохотал, как дьявол, и сгинул, а маменька рассудка лишилась. Вот после этого-то, когда уж он вьявь объявился, тут уж я и сама стала пугаться. Стала опять всякую работу исполнять, измаешься, будто полегчает. А потом опять! И всё он меня на гордость разжигал - а как разъел моё сердце, так и на грех стал наводить!.. Как мы жили? бедно, ровно нищие, только - только кормились, и я с шести лет уже за матерью на речку бельё носила, помогала ей, из чего мне гордиться? А у меня, поди-кось, что было в башке-то, - то было, и сказать не расскажешь! Бывало, сяду за стол, играю будто на фортепьяне, будто я барышня, перебираю пальцами так-то по столу, и что ж? ведь будто слышу: вот чистая музыка, чистая вот - вот по комнате раздаётся! Мать глядит, глядит на меня, - да зальётся слезами. А сны какие видела? проснусь, бывало, да и спрашиваю матушку: "Где, мол, мои золотые башмачки? А что я в хоромах танцевала? Ах, маменька, какие там красавицы были! но я всех лучше себя оказала!" После таких снов, бывало, без слёз ни за что дело не обходилось. Опомнюсь, увижу, что это сон,- реву, реву, - и мать тоже ревёт, ревёт, потом браниться начнёт, замахиваться, а потом и совсем бить начинала, потому с каждым годом он всё дальше да больше!
- Как стала я приходить в возраст, тут он, говорила я тебе, стал и на грех меня наводить. Просверлил мне сердце-то гордостью, да и стал любоваться, как я на грех-то стала легка! Первый раз, помню, с дочерью головы случилось... Добрые были люди, часто нам помогали, дай бог им здоровья! Пришла она к матушке, принесла чаю, сахарку. Девочка ровесница мне была... Пришла она, а во мне эта почесть-то и заговорила... "Как ты позволяешь, чтобы этакая тетеря чванилась над тобой? разве можно тебя с ней, с толстомясой, уравнять?" И завертело! Такие стала я ответы ей давать, такие ответы, прямо насмехаться стала! Она мне говорит: "Как ты, дура, себе это позволяешь?" - "Как дура?" Слово за слово, цап её по щеке!.. И сама не помню! Изуродовала меня матушка в то время, ах как изуродовала! Пришла я в чувство, думаю, господи, что я сделала! - добрый человек принёс чаю, сахару, а я как с ним поступила? Сама, глядючи на мать, что она измучилась от моего поступка, - реву, реву, бьюсь, бьюсь, молюсь, молюсь, а он всё шепчет, только уж со злом шепчет... Чую, что рад, - в грех ввёл! Вот так с этого и пошло! Раззадорит на худое дело, а потом и оплюёт! И никаких сил нет! Упаду, измучаюсь, ничего не помню... Видишь, голубчик! не люди! Люди нам всегда добра желали, а это он!
Нервная дрожь и видимый испуг и ужас охватил и потряс богомолку, когда она в каком-то исступлении воскликнула:
За что я мужа погубила?.. Какой человек! Изойдя весь свет, нашёл ли бы ты такую добрую, ангельскую душу? А ведь я его забила в гроб, заклевала его, насмерть заклевала!
- Как же так?
- Как! - говорила тебе, чем он сердце-то моё разъел?
- А издевался-то?
- Сто раз улестит! Опять сто раз раззадорит! Стала я невеста, опять разъел мне душу! Всё мне так-то представлялось, что со мною непременно что - нибудь должно случиться, не в пример против других. Хожу в отрепках, в опорках, а в мечтах - лучше я всех! Вот словно говорит он: "Наплюй на всех!" - И что же? Что ж ты думаешь? И сбывалось! Хоть бы вот как я замуж вышла. Слушаешь - как та, да другая вышла за богача, да за такого, за сякого, а он говорит: "Ты их превзойдёшь". Глядишь, слух новый пошёл - молодые, мол, худо живут, и деньги есть, и всё есть, а драться, мол, ругаться стали... "Ты, говорит, превзойдёшь!" - И что ж? Ведь превзошла! Как ты думаешь, за меня, за нищую, босоногую, растрёпу, стал, матушки мои голубушки, наипервейшего богача сын свататься. (В лавке у него на два двугривенных печенки купила.) Что ни делали родители-то, ругали, били, колотили, родня - так на весь город его срамила - "нет!" А уж меня-то в ту пору костили, боже милостивый! А я всё будто знать никого не хочу. Глас даёт знать: "будешь за ним!" Кончилось так, что пришёл отец к нам в конуру. "Где, говорит, твоя дочка - шкурёнка, выводи её!" Я вышла. "Что ты, говорит, шкурёнка, с моим сыном сделала?" Стала я давать ответы. Слушал, слушал старик: "Ах ты, говорит, бесовка проклятая! Напрохвостилась ты в трущобе-то, честному человеку с тобой не сговорить! Змеиный твой язык! Заела ты моего сына змеиным языком, и меня заедаешь!" А нечто это мой был ум? Это всё он!" "Заела, заела меня, змея!" - кричал отец на меня, однако дал согласие! Тут уж я ходила, земли под собой не слыхала! сколько тогда за моего-то жениха девиц норовило выйти, - все на меня зубы скалили: "Муж-то твой ангел, а ты-то дьявол!" И вправду, человек был тихий, благородный, кроткий, непьющий, ангельская душа, одно слово. Ног я под собой не слышала в ту пору... Кажется, чего бы еще?.. А он, что со мной под венцом-то сделал? "Из корысти, говорил, продалась!.. Оплела дурака, - где твоя совесть? У меня в когтях!.. Поклянись-то теперь в любви, поцелуйся, да взгляни в его харю!.." Стою я под венцом, вся как лист трясусь; стали целоваться, - глянула я на мужа на молодова, - и такая меня сразу взяла отчаянность! Господи!.. Показался он мне вдруг некрасивый, нос толстый, глаза белые, - представился он мне вроде как совсем глупый. "Боже мой, боже мой! И на что польстилась!" А он шепчет: "Велико счастье за лабазником! Оставила бы его толстомясым купеческим дурам, пусть бы они владели... Не тебе в мясной лавке сидеть и, вместо муженька-то, сдавать сдачу копейками!" Заголосило у меня в сердце, господи боже! Поцеловаться пришлось под конец венца, так насилу, насилу смогла! На всех навела смуть, тоску! Пир не в пир вышел, и закону я с супругом в то время не приняла. Тут сраму-то! Муж-то ходит, голову схвативши, плачет (добрый был, чисто ангел кроткий!), а мне он всё хуже да хуже... Он зарыдает, - а мне того противнее, - "за какого слюнявого пошла!" Всё злей да злей! Ей - богу правда! Уж вся родня собралась, - наступили на меня... а от этого он мне ещё стал гаже. По городу-то смех над ним. Сидит, сидит в лавке, придёт, весь пахнет, обнимется с женой... Я ему: "Что ты, с ума сошёл?.." Огорчу его. Родитель его придёт, говорит: "Целуй его!" А бес: "За что его свиное рыло целовать? Погляди какая харя". Погляжу, - так и есть! А бес-то: "Погляди, говорит, куда ты попала? Нешто это люди?" Погляжу, господи! Уроды-то! Боже милостивый, что это? И не понимаю, что говорят, и что им надо, и кто они такие? Злюсь, мечусь как угорелая. Муж-то, бывало, целую ночь рыдает, - а я больше, да больше! Что ни скажет - всё мне кажется, что он хочет меня совратить, уйду с кровати, стану одеваться, бежать! А куда бы мне бежать от этакого упокою? Всего было много, полная чаша, жить бы да жить. Нет, вывёртывает меня оттуда сила бесовская! В два годика таким манером забила муженька, заклевала его, - чах, чах, - зачах, помер! Тут я опамятовалась было на минуту... Я всегда опамятываюсь и робею, когда меня совсем пришибёт, что ни двинуться, ни с места встать!
- Хоть бы вот и теперь... Хорошо, что я ног под собой не слышу, устала, ну я с тобой будто и толком говорю... А дай-ко мне хозяин отдышать, накорми, напои меня, сейчас я стану мечтать; станет мне показываться, придёт мне в голову то, что никто не видит, не примечает, примусь я злиться, и за ваши же благодеяния - пойдёте вы от меня всё в дураках, да в шутах... А за что? Вы мне добро делаете, а я вам зло? Что это? Бес! Уйти мне скорей, господь с вами!
Старушка действительно скоро собралась, молча выпила воды в сенях постоялого двора, молча поклонилась и поспешно ушла.
из повести Глеба Ивановича Успенского - «Богомолка»