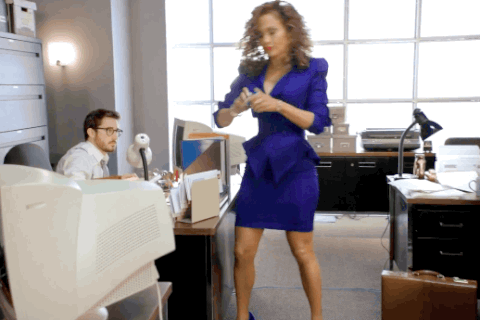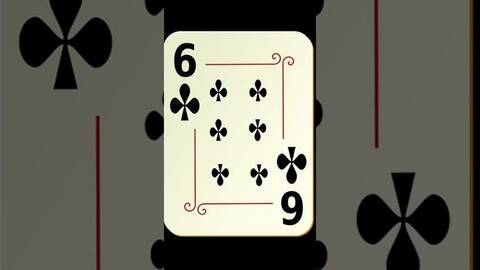Серебряная пешка мастера
Муки старят красавиц. Избавь от беды
Ту, чьи веки прозрачны, а губы тверды.
Будь с любимой нежней: красота ускользает,
На лице оставляя страданий следы.
Муки старят красавиц
Поэт: Омар Хайям
«Шахматная доска» (Фрагмент)
За стеклом проплывали леса и деревни.
Невысокие холмы и остывающие перед зимой поля. Бьющие в стекло капли становились крупнее.
Разобравшись с проблемами мелкого характера, время от времени поглядывая в окно, но теперь всё меньше отмечая то, что за ним проплывало, Алексей Алексеевич возвращался к единственному волновавшему его вопросу.
Лепёхину никак не хотелось соглашаться с тем, что вместе со всей командой предлагал Жарков.
«Нет, — думал Алексей Алексеевич, — нет, надо бы рискнуть.»
Увертюра, как казалось шахматисту, была чрезвычайно острой и затрагивала даже конец игры.
Дебют был красивым и глубоким.
Быть может, недостаточно удовлетворительным при точной игре соперника, но исключительным по своему обаянию.
Точность? В том-то и дело! — думал Лепёхин. — Венгр обязательно ошибётся! Всенепременно! Если не на четырнадцатом, то на шестнадцатом ходу — иначе и быть не может!»
Однако Жарков стоял на своём. Жарков буквально требовал играть отработанную, проверенную партию.
«С другой стороны, — продолжал размышлять Лепёхин, — будь на месте Жаркова кто - нибудь другой, я поспорил бы, но он, он мой учитель! Он знает гораздо больше! Имею ли я право перечить ему?!»
За окном лениво и тяжко плыли облака. По земле разливалась тоска.
Звуки полонезов остались далеко позади, и Алексей Алексеевич не знал, сколько времени провёл в дороге.
Лепёхин не любил часы (они отнимали время игры), не любил и никогда не носил. За окном темнело, и если брать в расчёт, что выехали в 19 часов, было около.
Несколько раз заходил Жарков. Тренер спрашивал, всё ли в порядке и не стоит ли чего - нибудь подать. Лепёхин благодарил и просил не беспокоиться.
***
Вот уже два часа как поезд стоял на Будапештском вокзале.
Венгерские журналисты, все как один одетые в английские костюмы, с повязанными по последней моде шарфами, недоумевали. Поезд прибыл, поезд остывал, но Лепёхин не выходил.
Облокотившись на большое, блестящее окно, директор вокзала говорил своему помощнику:
— Странный этот русский, правда, Сабо? Уже час как не выходит! Спит там, что ли? Или думает, что ему всё дозволено? Эти русские вечно считают себя самыми умными! Ещё матч не сыграли, а он уже позволяет себе задерживаться, не выходить. Скверно, скверно всё это, правда, Сабо?
— Да, господин директор, но если честно, по мне так, знаете, по мне так всё равно. Меня вот больше ваш конь волнует! Так удачно он у вас тут стоит, ну просто не продохнуть! Всё - таки, наверно, потому вы и директор, что в шахматы лучше играете, ни разу я у вас не выигрывал, господин директор!
— Думай, Сабо, думай, в шахматах главное не торопиться. Куда тебе спешить? Вокзал как стоял, так и будет стоять, а ты, Сабо, думай!
Лепёхин появился спустя четыре часа. Два человека вели его под руки. Венгерским журналистам удалось отметить, что русского шахматиста немного пошатывало.
Другие недолго думая сумели уловить запах алкоголя. Так все сошлись во мнении, что Лепёхин пьян.
Слух, что русские пьют даже в преддверии финального матча, тотчас разнёсся по всему Будапешту.
К вечеру, благодаря телеграфу, в изобретении которого так нуждались сплетники всего мира, слух докатился и до родного города Алексея Алексеевича. На родине весть о том, что Лепёхин запил, восприняли с ещё большим негодованием.
Пьяный Лепёхин? Странно! Он ведь не пьёт!
Будапешт замер в ожидании финала. Замерла родная для Лепёхина Москва.
Подобно Жаркову, ходившему из стороны в сторону у двери гостиничного номера, в Санкт - Петербурге под дробь стучавшего в окна дождя из стороны в сторону ходили министры финансов и иностранных дел, депутаты и городовые, журналисты и поэты, врачи и все, для кого шахматы были самым большим на свете увлечением.
Всю ночь в номере Лепёхина горел свет. Метрдотель рассказал одному из журналистов, что к Лепёхину никто не заходил.
Шахматист ничего не ел, никого не впускал. Ни консьержей, ни секундантов. Около четырёх часов утра свет погас. Лепёхин уснул. «Да, это точно! Я лично слышал», — заявил метрдотель.
Утром сонные мальчишки не успевали продавать газеты.
За столиками в кафе и на скамейках в парках, встряхивая страницы, будапештцы читали о приезде великого русского шахматиста.
На первой, второй и третьей полосах, статья за статьей, рассказывалось о Лепёхине, его команде и сильных дебютах, о лучших матчах Магияра и прославленной венгерской защите.
Около девяти часов утра команда России спустилась в ресторан.
Официанты разливали кофе, и молодой худощавый переводчик, вероятнее всего, кадет, зачитывал отрывки из утренней прессы:
— Они говорят, Алексей Алексеевич, что вчера вы вовсе не были пьяны, а всё произошедшее есть не что иное, как провокация тайной царской полиции. Они пишут, Алексей Алексеевич, что вы, судя по всему, хотели ввести в заблуждение венгерского чемпиона. Но венгры, Алексей Алексеевич, пишут они, не дураки. Так утверждает автор статьи. Венгры и не думали расслабляться, и уж тем более отдавать вам чемпионский титул!
— А что в другой? — намазывая маслом странный серый хлеб, спрашивал Жарков.
— А в другой пишут, что. Дайте-ка взгляну. Пишут, что вся страна живёт в ожидании полуденного матча, и конечно, ни у кого нет сомнений в том, что золотая королева останется в Венгрии. Магияр лучше, пишут они.
Как ни пытались Жарков и переводчик изображать беззаботность, ничего не выходило. Лепёхин молчал.
За всё утро он не проронил ни слова и только то, что за столом сидели многоопытные, выдержанные шахматисты, не выдавало общего, с каждой минутой нараставшего волнения.
Перед тем как открылась дверь автомобиля, Жарков успел перекрестить Лепёхина и поцеловать в лоб.
Живая цепь тянулась через сад к театру. Окружённый верными друзьями, через гущу людей Лепёхин пробирался к входу в большое, с высокими колоннами здание.
Жарков придерживал Лепёхина за поясницу и, немного подталкивая вперёд, шептал:
— Дальше, Алексей Алексеевич. Не останавливайтесь, дальше, ступайте дальше.
Лепёхин не помнил, как вышел из гостиницы, не помнил красивых улиц Буды и остававшегося по правую руку перекинувшегося через Дунай моста. Не помнил холмов Пешта и машины, в которой ехал к месту поединка.
Он не видел взглядов и не слышал слов, что всё утро говорили ему и о нём.
Алексей Алексеевич не мог вспомнить дверей и лестниц, комнаты, в которой провёл не меньше часа, и коридор, которым шёл к сцене. Он не помнил, как сел за стол и как кто-то подтолкнул к нему стул.
Не помнил, как появился венгр и в стороны разлетелся занавес. Ударил свет. Волнами покатили аплодисменты.
Лепёхин посмотрел на чёрную пешку, и показалась, что она затряслась.
За несколько мгновений Алексей Алексеевич прокрутил партию до двенадцатого хода, и когда настал момент брать слона, зал замер. Лепёхин встряхнулся.
Послу России позволили сделать почётный первый ход.
— С вашего позволения, — произнёс чиновник, наклонившись к Лепёхину, и двинул пешку на d4.
Алексей Алексеевич понимающе улыбнулся и, пока посол спускался в зал, вернув солдата на исходную позицию, сделал свой ход — e2 — e4.
Партия началась.
Венгр ответил пешкой на е5, и его ход тут же отобразился на большой доске, по которой зрители следили за игрой.
Последовали обоюдные выдвижения коней, слонов и пешек. Перевернув страницу подаренного в дорогу новой любовницей блокнота, сидевший в третьем ряду русский журналист записал:
«Играют медленно. Точно и верно. Вспоминая целые сражения и отдельные ходы, стремительные проверенные дебюты и выверенные мучительные защиты. Играют метко, едва шевеля губами».
Последнюю строчку журналист зачеркнул, но остальными остался доволен. Взглянув на внушительного размера доску, он продолжил:
«Чёрные подвергнуты огромному давлению, однако Лепёхин отчего-то откладывает наступление. Бронзовые офицеры видят диагонали. Короли прячутся в углах, и каждая пешка мечтает стать ферзем в эндшпиле» (*).
Пока журналист получал удовольствие от самого процесса написания блистательной статьи, зрителей всё сильнее затягивала партия.
Несколько минут назад венгр сделал ожидаемый ход. Напрашивался ответ, однако Лепёхин медлил.
Данное обстоятельство сильно беспокоило сидевшего рядом с переводчиком Жаркова. Наклонившись немного вперёд, он постукивал пальцами по ручке кресла и постоянно дёргал ногой.
— По-вашему, что-то не так? — спрашивал переводчик. — Я, конечно, не большой специалист, однако, насколько могу судить, пока всё идёт хорошо.
— Мне непонятно, почему Алексей медлит.
— В каком смысле? Вероятно, думает.
— Вот именно, чего же тут думать? Эта позиция проработана нами до глубокого эндшпиля! Тут всё ясно!
— Ах, вот оно что! — выделяя каждое слово, произнёс переводчик.
Через десять (!) минут Лепёхин, наконец, сделал ход. Венгр ответил.
Последовал размен, и когда передвижения офицеров, туры и дамы отобразились на большой доске, Жарков чуть было не вскочил с кресла:
— Господи! Что же он делает! Он теряет темп! Это. Это же провал.
***
Труп Лепёхина лежал посреди питерской гостиной.
Выходившие на Большую Морскую улицу окна были открыты.
Полицейские время от времени, деликатно переступая через тело великого русского шахматиста, ходили по комнате.
Возле камина в кресле сидел толстый, всегда недовольный своим телом человек. Он тяжело дышал и рассматривал серебряную пешку:
— Вот вам и шахматисты! Вот тебе и стальные нервы! Впрочем, следует признать, что пулю пустил комплиментно!
— Как вы сказали, Николай Александрович? — спросил врач.
— Я сказал комплиментно, от слова комплимент.
— Опять вы, Николай Александрович, слова выдумываете!
— А отчего же не выдумывать, коль скоро труп наш так мастерски стреляется!
из книги Саши Филипенко - «Шахматная доска»
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) и каждая пешка мечтает стать ферзем в эндшпиле» - Эндшпиль — заключительный этап шахматной партии.