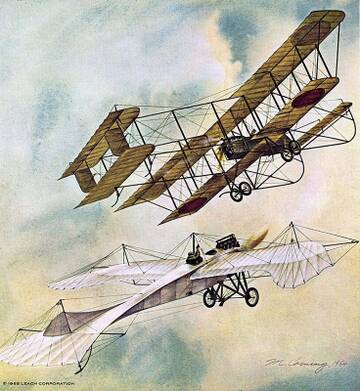Не замарашка
Женщина – вулкан Как древний Везувий,
Меня затопила,
Сожгла моё сердце
И силы лишила.
Обугленный страстью,
Отравленный ядом,
Сгораю от счастья,
Что ты со мной рядом.
Восставший из пепла,
Как выжил, не знаю.
К губам твоим властным
Я вновь припадаю!
Вулкан не стихает,
Бурлит и клокочет.
Душа улетает.
Люблю тебя, очень!
Ты – древний Везувий.
А я, как Помпеи.
Но если ты рядом,
Я жизнь не жалею!
Автор: Надежда Чепурная
Почему женщины убивают (2019 сериал 2 сезона) - Русский трейлер (2021)
Кука.
Клавдия всю жизнь была «подругой».
Есть такой женский тип в комедии нашей жизни.
«Подруга» всегда некрасива, добра, не очень умна.
Ей поверяют тайны, когда трудно молчать, она хорошо исполняет поручения. «
Подруга» часто влюбляется вместе со своей госпожой, за компанию.
Говорю «госпожой», потому что в женской дружбе почти никогда не бывает двух подруг.
Подруга только одна. Другая – госпожа.
В Париже Клавдия попала в подруги к Зое Монтан, умнице, красавице, женщине с прошлым, с настоящим и будущим.
Настоящее у Зои было, очевидно, хуже других времён, то есть прошлого и будущего.
Пробовала сниматься в кинематографе, пробовала танцевать в ресторане, но всё как-то не ладилось, пришлось остановиться на комиссионерстве: продавать жемчуг и шарфы.
Тут-то и прилипла к ней Клавдия, рисовавшая, вышивавшая, самоотверженно бегавшая по поручениям.
Зоя относилась к Клавдии чуть - чуть презрительно, но ласково. Узнала, что в детстве Клавдию звали Кукой. Понравилось.
– Это меня так младший братец прозвал. Сокращённое, говорит, от кукушки. Оттого, что я такая веснушчатая.
У Зои в её маленькой отельной комнате всегда толклось много народу.
И делового – с картонками и записками, и бездельного – с букетами и театральными контрамарками.
Среди бездельных Кука отметила высокого, широкоплечего, с красивыми большими, очень белыми руками. Нос с горбинкой и брови со взлётом.
– На сокола похож.
Думала, что такой должен бы Зое понравиться. Но только раз проговорилась Зоя, рассказывая о какой-то пьесе:
– Такую блестящую роль отдали толстому увальню. Здесь нужен актёр - красавец, обаятельный, властный, чтобы сердце дрожало, когда он взглянет. Кто - нибудь, вроде нашего князя Танурова.
– Князь на сокола похож, – сказала Клавдия.
Зоя нервно задёргала плечами, неестественно засмеялась:
– Кука, моя Кука! Ну до чего ты у меня корявая, так это прямо на человеческом языке выразить нельзя.
И Кука поняла, что Зое князь нравится. И как только поняла, сразу за компанию и влюбилась.
Князь Куку совсем не замечал.
Маленькая, рыженькая, хроменькая, одевалась она всегда в какие-то защитные цвета и благодаря этим цветам и собственной естественной окраске так плотно сливалась с окружающей средой – со стеной, с диваном, что её и при желании нелегко было заметить.
Душа у неё тоже принимала окраску «среды».
Зоя весела, и Кука улыбается. Зоя молчит, и Куки не слышно.
Так где же её выделить из этого фона, звонкого и яркого?
Зоя нервничала, похудела. Стала рассеянной.
О князе никогда не говорила, но, если Кука о нём упоминала, она сразу затихала и настораживалась.
Раз неожиданно сказала:
– Здоровое животное. У него, наверное, как у лошади, селезёнка играет.
И лицо её стало злое и несчастное.
Кука мечтала о князе. Мечтала не для себя, а за Зою. Разве смела она – для себя?
Вот Зоя утром сидит с ним на балконе где-то у моря.
На ней розовый халатик, тот самый, который Кука сейчас разрисовывает для американки.
Плечи у Зои смуглые, душистые, сквозят через золотое кружево.
Князь улыбается и говорит… Кука совсем не может себе представить, что он говорит. Может быть, просто «счастье! счастье! счастье!».
Настали тревожные дни.
Зоя двое суток пролежала в постели, ничего не ела и молчала.
На третий день пришёл князь, и Зоя хохотала, как пьяная, и всё приставала к Куке:
– Князенька, посмотрите, какая моя Кука чудесная! Сидит, веснушками шевелит.
А когда князь ушёл, она долго сидела с закрытыми глазами и на вопросы не отвечала. Потом, не открывая глаз, сказала:
– Уйдите же! Вы видите, что я устала.
Но вот настал вечер, когда Зоя сама пришла к Куке, бледная, словно испуганная.
– Друг мой, – сказала она. – Сегодня Господь сотворил для меня небо и землю. Сегодня Константин сказал мне, что любит меня. И он меня поцеловал.
Кука, похолодев от восторга, встала перед ней на колени и заплакала.
– Господи! Господи! Счастье какое!
– Я так и сказала ему – небо и землю, – повторила Зоя в экстазе. – Небо и землю.
А Кука ни о чём не расспрашивала. Молилась и плакала.
Утром Кука забежала в церковь поставить свечечку за рабов Божьих, Константина и Зою.
Хотела поставить перед Распятием, но подумала, что лучше не у страдания гореть ей, а у торжества и радости, и поставила к Воскресению.
Потрогала листки – с красными надписями за здравие, с чёрными – за упокой.
– За упокой для души умершей. А почему нет за покой для живой и томящейся? И почему есть о здравии и нет о счастье?
Помолилась, всплакнула от радости.
– Какое счастье, что есть на Божьем свете такая красота, как эти люди и их любовь. Вот и я, маленькая, корявенькая, всё - таки что-то для них сделала.
Пошли дни новые, похожие на прежние.
Раб Божий Константин возил рабу Зою завтракать на своём, говорил он, «гнусном фордике».
Иногда брали с собою и Куку.
Зоя никогда не возвращалась к откровенному разговору с Кукой и не вспоминала о том дне, когда Господь сотворил для неё небо и землю.
Как будто ей даже было неприятно, что она так тогда размякла. Потом Кука поняла, что у князя есть жена.
– Какая трагедия! И как прекрасна Зоя в своей самозабвенной жертве. Такая красавица! Такая гордая!
Шли дни. И потом настал день.
Зоя с вечера попросила Куку отвезти заказ в Сен - Югу.
Князь предложил, что довезет её на своём «гнусном фордике».
Кука и обрадовалась, и испугалась. Как так – вдвоём… О чём же она с ним говорить будет?
Ночью придумывала всякие предлоги, чтобы отказаться, но как-то ничего не вышло.
Утром с отчаянием в сердце и с картонкой в руках ждала у подъезда, чтобы он не поднялся и не увидел её ужасной комнатушки.
Князь сам управлял автомобилем и поэтому, слава Богу, говорил немного. Кука исподтишка любовалась его бровями, его сильными руками.
«Князь - сокол!»
Он мельком взглянул на неё. Усмехнулся. Взглянул ещё.
– Сколько вам лет?
– Двадцать девять, – испуганно ответила Кука.
– Я думал – четырнадцать.
Подъехали к дому заказчицы.
Князь нажал несколько раз резину своего гудка, и элегантный лакей в полосатой куртке и зелёном переднике выбежал к воротам.
Князь отдал ему картонку и повернул автомобиль.
«Как всё сегодня нарядно, – думала Кука, пряча в рукава свои руки в нитяных перчатках. – И как я не подхожу ко всему этому».
– Ну-с, а теперь, – сказал князь, – я предложу вам следующее: мы никому ничего не скажем и поедем завтракать.
Кука совсем перепугалась. Что значит «никому не скажем»?
Впрочем, это, может быть, какая - нибудь смешная поговорка или цитата,
– Нет, мерси, я не голодна, мне пора домой.
– Кука! Маленькая эгоистка! Она не голодна! Зато я голоден. Надо же мне какую - нибудь награду за то, что развожу ваши картонки. Неужели нельзя опоздать на полчаса? Мы никому ничего не скажем и живо позавтракаем.
Опять это «никому ничего»…
Князь повернул, не доезжая до моста, и остановился около маленького ресторанчика, нарядно украшенного фонарями и гирляндами зелени.
Кука старалась настроить себя на радостный лад.
Так всё необычайно. Она сидит, как настоящая дама, с этим удивительным человеком.
Он наливает ей какого-то крепкого вина.
Какая красивая рюмка. Но нет радости. Растерянность и страх.
Скорее бы кончилось.
Как много вилок… Которую же надо взять? Неужели он не понимает, что ничего мне этого не нужно?..
Она подняла глаза и встретила его взгляд, пристальный и весёлый.
– Я гляжу на вас, маленькая моя, не меньше пяти минут. О чём вы думаете?
Кука молчала. Чувствует, что краснеет до слёз. Он вдруг взял её руку.
– Маленькая моя! Необычайная! Смотрите, как её ручка дрожит. Словно крошечная птичка. И пульс бьётся. Господи! Бьётся сердце маленькой птички. Кукиной руки!
Он прижал её руку к своей большой горячей щеке, потом стал целовать её быстрыми твёрдыми поцелуями.
– Кука, маленькая, как я люблю вас.
И, точно в пояснение, прибавил:
– Серьёзно, сейчас я вас одну в целом мире люблю.
Кука не шевелилась.
Он обхватил рукой её плечи и, быстро нагнувшись, поцеловал её в губы.
Кука закрыла глаза.
«Господи! Что же это? Это ли счастье – этот ужас? Зоя, красавица, гордая, и я, бедненькая, рваненькая. Зоино счастье красивое, где же оно? Куку, которая „веснушками шевелит“, целуют теми же губами…»
И вдруг поняла, что значит «никому ничего не скажем»…
– Ну, маленькая моя! – говорит ласково - насмешливый голос. – Ну можно ли так бледнеть?
Лакей убирал со стола закуску, и князь, слегка отодвинувшись от Куки, сказал, наливая уксус в салатник:
– Сегодня удивительный день. Я бы мог выразиться, что сегодня Бог сотворил для меня небо и землю. Ай, что с вами?
Он схватил её за руку выше локтя. Ему показалось, что она падает.
Но она вырвалась и встала, бледная, страшная, с открытым ртом, задыхающаяся.
И вдруг подняла стиснутые кулаки, прижала их к щекам, закричала, качаясь:
– Подлый! Вы подлый! Обнимали меня здесь, как портнишку, как швейку… пусть… это пусть… это забавлялись… чего со мной считаться… А её святые слова вы не смеете повторять! Не смеете!.. Убью!.. Убью!..
Голос у неё хрипел и срывался, и чувствовалось, что, будь у неё силы, она кричала бы звенящим отчаянным криком.
Князь, криво улыбаясь, налил в стакан воды. Взял её за плечо. Она отскочила, словно обожглась:
– Не смей прикасаться ко мне, гадина! Не смей! Убью - у - у!
И была в её дрожавшем бескровном лице такая безмерная боль и такое гордое отчаяние, что он перестал улыбаться и опустил руки.
Не сводя с него глаз, словно как зверя держа его взглядом на месте, она обошла стол и вышла, стукнувшись о притолку плечом.
– О - о - о! – со стоном вздохнул он. Попробовал насмешливо улыбнуться:
– Quelle corvee! / Какая тягомотина! (фр.) /
Но вдруг заметил на столе Кукины перчатки. Простые, бедненькие, рваненькие Кукины перчатки.
Слишком маленькие и ужасно бедные на твёрдой холодной скатерти, рядом с хрустальным бокалом, рядом с резным серебром прибора.
И, не понимая, в чём дело и что с ним происходит, князь почувствовал, что тут уж никак не устроишь так, чтобы всё вышло забавно и весело.
– Но ведь, право же, я не хотел её обидеть. Неужели я был некорректен?
Кука
Автор: Н. А. Тэффи