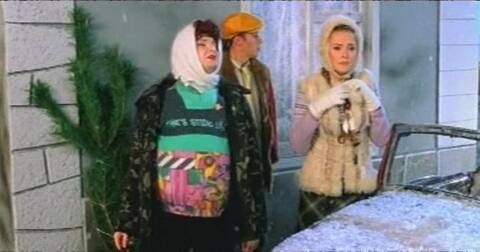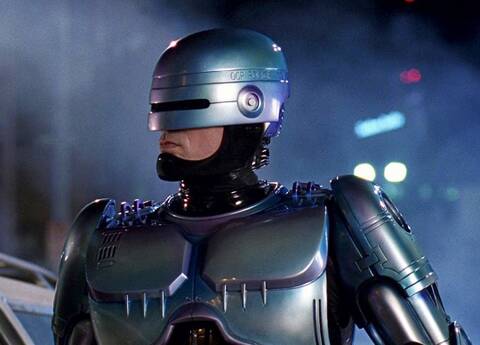Вери. Гуд. Тень.
Мыльные Тени Пыльных Пузырей.
Дна
Не достичь,
Под
Сомнением
Плахи….
Сколько
Морщин
На
Борту
Черепахи?
Сколько
У Млечных
Дорог –
Параллелей?
Мы
Икру
Мечем,
А
Не
Тефтели.
Мыльные Тени Пыльных Пузырей
Автор: Д.И.М.А.Пинский
! встречается нецензурное выражение !
О существовании Метода он узнал совершенно случайно, когда сопровождал в качестве гида - фрилэнсера (это был его основной способ зарабатывать на жизнь) двух путешествующих по восточной Индии москвичей.
Москвичи были характерные для нового тысячелетия — те самые "пидорасы, выкованные из чистой стали с головы до пят", приход которых провидел из бездны Венедикт Ерофеев: безупречно заточенные на успех выпускники тренинга "лайфспринг ++", уже приблизившиеся к реализации его высшего плода — открытию собственного небольшого дела по заточке высокоуглеродистых пидорасов под названием "спринглайф ++" или около того.
Один, с лицом мексиканского убийцы, практиковал какой - то закрытый тибетский культ. Второй, удивительно похожий на мушкётера усами и бородкой, уже завязал с буддизмом и искал теперь выход на секту душителей - тхагов, искренне расстраиваясь после каждого облома в очередном храме Кали. Но главной целью путешествия было повышение профессиональной квалификации.
От прихожан будущего тренинга предполагалось скрыть первую благородную истину (*), заменив её последней прошивкой эзотерического сознания, и заготовка фуража шла полным ходом: москвичи снимались на фоне таинственных руин (консервный завод тридцатых годов, сильно размытый мансунгами), прислушивались к ветру в листьях дерева бодхи (росток от ростка того самого, ну вы поняли (**)) и шептали свежевыученные шиваитские мантры в сторону самого страшного из наблюдаемых изображений, щита с рекламой индийского филиала МТС.
Оттуда глядел демонический сверхчеловек с недобрым взглядом, похожий на чеченского танцора, решившего стать шахидом на следующем этнографическом фестивале — причём рук у него было шесть, все железные, кончающиеся какими - то инфернальными зажимами, отвёртками и пипетками. Скорей всего, это был вписанный в мировые тренды молодой городской профессионал, составляющий стержень и опору модернизационного класса, Олег именно так сразу и подумал.
Вместо действующих святых, на промывания у которых была очередь и у людей побогаче, москвичи подолгу беседовали с местными экскурсоводами — те говорили на сносном английском и владели оккультным дискурсом не хуже настоящих махатм.
Один такой экскурсовод, молодой парнишка с еле пробивающимися бакенбардами, рассказал довольно стандартную историю про летающего отшельника, жившего на вершине местной горы десять лет. Всё это время отшельник питался только поднятой по позвоночнику змеиной силой кундалини.
Переводя, Олег глумливо подумал, что местному правительству следовало бы построить вокруг этой технологии здешнюю Продовольственную Программу.
И тут экскурсовод добавил нечто такое, чего Олег никогда раньше не слышал:
— И ещё он был заклинателем тени…
Так Олег перевёл. На самом же деле гид употребил выражение "shadow speaker", которое можно было понять по-разному — как "говорящий с тенью" и "теневой говорящий".
— Что это? — спросил один из москвичей.
Тут Олег сделал что - то непонятное. Вместо того, чтобы перевести вопрос, он презрительно махнул рукой.
— Ответвление заупокойного культа, — сказал он наугад, — говорят с духами предков. Делают вид, что говорят… Чистое шарлатанство, конечно, реальной ценности не представляет.
Интерес москвича угас, и он спросил что - то про кундалини.
— Надо давить на муладхару специальным дыханием, — охотно начал юный индус, — но перед этим обязательно должны быть раскрыты все чакры. Я могу рекомендовать одного саду, который даст самые точные указания… (***)
Дальше все было как обычно.
Прощаясь с гидом, Олег взял его телефон.
1.
Вечером москвичи - лайфспрингисты наконец проявили себя с тёплой человеческой стороны — протрескались в своей гостинице купленным в аптеке кетамином, ветеринарным препаратом, переносящим сознание психонавта в пространство собачьего забвения, оно же измерение чистого духа (ибо Атман везде).
Пока гости странствовали в духовном космосе среди обрубков щенячьих хвостов и ушей, Олег выполнял функцию бэбиситтера, а когда активная фаза трипа прошла и началось обсуждение приобретённого психоделического опыта ("я тебе говорю, у России кишечник совсем коротенький, а у Индии длинный, такой длинный, что его даже до конца не проследить — вот от него - то и вся эта ёбаная грязь…"), незаметно вышел, позвонил юноше - экскурсоводу и договорился о встрече в единственном местном ресторане, где можно было есть без риска для жизни.
Индус ждал его за столом под открытым небом. Отсюда открывался вид на горную гряду, где каждая гора была жилищем какого - нибудь местного бога — а каждый из этих богов, в свою очередь, был локальной эманацией или Шивы, или Вишну, или Брахмы.
— Shadow speaker? — переспросил индус. — Сколько денег ты хочешь потратить? Я мог бы организовать экскурсию в один малоизвестный храм…
Олег дал ему пятьсот рупий.
— Я тоже гид, — сказал он. — Зарабатываю тем же самым, что и ты, так что не дури мне голову. Вор не должен воровать у вора. Профессионалы не должны морочить друг друга. Расскажи, что знаешь.
Молодой индус взял деньги и улыбнулся.
— На самом деле знаю немного, — сказал он. — Это такая легенда. Считается, что, если долго концентрироваться на тени, она ответит на вопросы и покажет истину.
— И всё?
— И всё.
— А где получить более подробную инструкцию?
Тут гид во второй раз удивил Олега. Он сказал:
— Более подробную инструкцию получить в принципе можно. Я мог бы придумать её сам, а мог бы посоветовать куда - нибудь за ней отправиться. Но если вор не должен воровать у вора, я скажу правду. Других инструкций искать не надо, потому что всё необходимое я тебе уже сказал.
— Но ведь надо знать, как именно концентрироваться на тени.
— Ты не понял, — ответил гид с улыбкой. — Всё расскажет тень. Спрашивать теперь надо не меня, а её. Метод заключается именно в этом…
— Но ведь нужна, наверно, какая - то передача, чтобы делать такую практику?
— Вот это она и есть.
Олег поднял глаза на собеседника.
Была уже почти ночь. Тёмное небо с силуэтами гор казалось древним грязным ковром, засаленным затылками неисчислимых жуликов — и сидящий напротив индус вдруг представился Олегу не молодым, а, наоборот, невероятно древним стариком, главным вором в той гильдии, к которой он только что имел наглость себя причислить.
И ещё мелькнула мысль, что отшельник, о котором рассказывал индус, и сам индус — это один и тот же колдун, кроме полётов в небе и разговора с тенью освоивший ещё одну магическую технологию, главную по нынешним временам — умение прикидываться молоденьким гидом и за небольшую мзду рассказывать волшебные истории о самом себе.
Олегу стало страшно. Вытащив из кошелька новенькую тысячу рупий, он искательно протянул её гиду — словно отдавая себя под защиту нарисованного на банкноте Ганди. Индус строго поглядел на Олега, но деньги взял.
из сборника рассказов Виктора Пелевина - «Ананасная вода для прекрасной дамы» . Рассказ «Созерцатель тени». (Отрывок)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*) От прихожан будущего тренинга предполагалось скрыть первую благородную истину - Первая благородная истина буддизма: жизнь неотделима от страдания.
(**) прислушивались к ветру в листьях дерева бодхи (росток от ростка того самого, ну вы поняли - Дерево, под которым Гаутама достиг просветления в Бодх - Гае, не сохранилось, однако из его семени было выращено дерево в Анурадхапуре на Шри - Ланке во времена царя Ашоки. Примерно через 50 лет после смерти Ашоки к власти пришли цари династии Шунга. По приказу царя Пушьямитра дерево было уничтожено. После смерти царя со Шри - Ланки был доставлен новый росток, из которого выросло дерево, стоявшее около 800 лет, но срубленное в VI веке во время правления бенгальского царя Шашанги. Позднее из Анурадхапуры был доставлен ещё один росток, из которого выросло дерево, просуществовавшее до 1876 года, когда оно было повалено бурей. Новый росток был посажен в Бодх - Гая из того же материнского дерева в Анурадхапуре, которое стоит до сих пор.
(***) — Надо давить на муладхару специальным дыханием, — охотно начал юный индус, — но перед этим обязательно должны быть раскрыты все чакры. Я могу рекомендовать одного саду, который даст самые точные указания… - Муладхара-чакра — это первая чакра, также известная как корневая. Она отвечает за фундамент духовного развития и служит основанием для здоровой и гармоничной жизни в материальном мире. Цвет муладхара - чакры — красный, форма — лотос с четырьмя лепестками. Стихия муладхара - чакры — земля.
Садху - термин, которым в индуизме и индийской культуре называют аскетов, святых и йогинов, более не стремящихся к осуществлению трёх целей жизни индуизма: камы (чувственных наслаждений), артхи (материального развития) и даже дхармы (долга). Садху полностью посвящает себя достижению мокши (освобождения) посредством медитации и познания Бога. Садху часто носят одежды цвета охры (охра - природная минеральная краска жёлтого или красного цвета), которые символизируют отречение.